![]() |
![]()
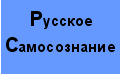
 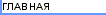






 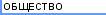

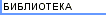

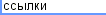
 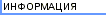

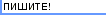
 |
![]() |
![]() 
Содержание выпуска
№3
|
|
Николай
Ильин.
Понять Россию.
1.
В конце жизни, как бы подводя её итог,
Николай Николаевич Страхов заметил: “на моей
могиле можно будет, конечно, написать: один из
трезвых между угорелыми, но дальнейшие похвалы
подлежат ещё большому вопросу” [1].
Подобная самооценка может показаться нарочито
скромной, рассчитанной именно на “дальнейшие
похвалы”. Но думать так - значит не вполне ясно
представлять то высокое значение, которое имеет
подлинная духовная трезвость в глазах
православно-русского человека, каким был
Н.Н.Страхов. Спокойное сознание своего
собственного, невыдуманного достоинства как раз
и позволяло ему говорить (а часто и спорить) на
равных даже с такими современниками, как
Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. Последние знали,
что именно Страхов способен порою увидеть и
понять нечто существенное, не замеченное или
не до конца понятое ими самими.
Но не только в этом заключалась
причина того особенного уважения, которое питали
к Н.Н.Страхову его друзья, и той особенной
ненависти, которую вызывал он у своих
противников. Борьба с Западом”, составившая
основное дело его жизни, велась Страховым на
новом, для многих неожиданном направлении. Он
ясно понял, что для успеха этой борьбы мало
твердой веры, горячего чувства, глубокой
интуиции и духовной цельности - необходимо и
“приобретение умственной самостоятельности”,
развитие своего собственного русского ума.
В этом заключался основной пафос всех
его трудов, основной смысл его деятельности и как
философа, и как литературного критика, и как
публициста. “Строгая работа ума”, точный и
объективный анализ всех явлений, даже “дух
рационализма, к области которого, без сомнения,
принадлежит всё, что в науках есть
истинно-научного” [2],
должны были стать, по убеждению Страхова, и нашим
русским оружием - а не только оружием наших
врагов. И эти последние быстро осознали, какая
опасность им угрожает; вот почему Страхов “был
облаян из-под всех подворотен”, постоянно
испытывал на себе “низкий прием высмеивания
пополам с замалчиванием” [3]. Но и
эта уникальная даже в истории русской
“общественной жизни” травля не помешала
Страхову вести до самого последнего дня свою
главную борьбу - борьбу за возведение наших
национальных инстинктов и стремлений в
сознательные начала .
Н.Н.Страхов в
полной мере заслужил имя русского мыслителя - и
своим вкладом в развитие самостоятельной
русской мысли, и просто примером мыслящего
русского человека. Его работы и сегодня
сохраняют характер того эталона ясного и
глубокого мышления, который видел в них
В.В.Розанов, неслучайно назвавший Страхова
“Баратынским нашей философии” [4]. Но
прежде чем говорить об уникальном месте Николая
Страхова в истории русского самосознания,
отметим основные вехи его жизни, следуя главным
образом прекрасному очерку Бориса Никольского,
талантливого публициста, ставшего в 1919 году
одной из жертв большевистского террора против
т.н. “черносотенцев”. Сделать это тем более
уместно, что знакомство с биографией Страхова,
особенно с ранними годами его жизни, позволяет
понять настоящий источник его глубокого
уважения к человеческой мысли - уважения, в
котором даже некоторые его союзники по “борьбе с
Западом” видели проявление скрытого
“западничества”.
2.
Н.Н. Страхов и по
отцовской, и по материнской линии происходил из
духовного сословия; его отец Николай Петрович
Страхов был протоиереем в Белгороде, как и его
дед со стороны матери. Впрочем, род матери, Марии
Ивановны Савченко, был к тому же и дворянским;
такое сочетание двух сословий, нетипичное для
великорусской жизни, не было редкостью в
Малороссии, откуда этот род происходил.
Уже после смерти отца семья Страховых
переехала в Кострому, где Николай поступил (в 1840
г.) в местную семинарию, пройдя там полный курс
обучения. Об этом периоде Страхов оставил
воспоминания, которые бросают яркий свет на
становление личности Страхова, на её глубинные
основы. К числу этих основ принадлежала в первую
очередь религия, а точнее, та внутренняя
религиозность, которая, по словам Страхова,
“составляет действительное доказательство
благородства души человеческой” [5]. В
своих воспоминаниях Страхов откровенно, хотя и
без нажима, говорит о крайней бедности
семинарской жизни, заурядной материальной
бедности. Много написано о том, как эта бедность
калечила характер воспитанников; меньше - о том,
что та же бедность побуждала воспринимать
Православие не с внешней, а с внутренней стороны,
“со стороны чувства и понятий”, воспринимать
дух Православия, а не только его великолепную
оболочку. Именно дух Православия, ещё точнее, дух
православного монашества вошёл в плоть и кровь
Страхова. “Постоянное памятование религии”
отмечал в нем Василий Розанов, а Борису
Никольскому “даже манеры, обороты речи, самая
наружность его напоминали типичного
великорусского монаха”.
Второй основой личности Страхова,
заложенной именно в семинарии, был патриотизм.
“Настоящий, человеческий источник патриотизма
есть преданность, уважение, любовь - нормальные
чувства человека, растущего в естественном
единении со своим народом... именно эти чувства
воспитывала в нас наша бедная семинария” - писал
он, добавляя: “В нашем глухом монастыре мы
росли... как дети России” [6].
Именно так - как связь сына с родителями и даже
ещё прочнее - понимал Страхов свою связь с
Россией и русским народом. И когда много лет
спустя Владимир Соловьёв потребовал от Николая
Страхова стыда за так называемые “грехи
России”, тот отвечал: “Я часто смущаюсь, и
унываю, и стыжусь, но только за нас в тесном
смысле слова, то есть за себя с г. Соловьёвым, за
наше общество, за ветер в головах наших
образованных людей и мыслителей... Но за русский
народ, за свою великую родину я не могу, не умею
смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться России?
Сохрани нас, Боже! Это было бы для меня неизмеримо
ужаснее, чем если бы я должен был стыдиться
своего отца и своей матери” [7].
И наконец, та же
семинария, тот же “глухой монастырь”, где
воспитанникам не хватало порою хлеба и каши,
заложил и третью основу личности Николая
Страхова. “Царство ума, новые и древние создания
мысли и творчества являлись мне с детства, как
далёкое небо, обступившее меня со всех сторон и
усеянное прекрасными светилами” [8]. При всей бедности
монастырской жизни, продолжает Страхов,
“какой-то живой умственный дух не покидал нашей
семинарии и сообщался мне” - и этот живой
умственный дух стал самой яркой чертою его
личности, чертою, вероятно, и заданной его
природным характером, но никак не подавленной в
провинциальной семинарии, где, по словам
Страхова, “уважение к науке было величайшее”.
Вот почему Николаю Страхову не
приходило в голову считать себя отступником,
когда по окончании семинарии он отправился в
Петербург и поступил на математическое
отделение Университета; в этом ему, кстати, помог
дядя, брат матери, бывший до перевода в
Петербургскую епархию ректором семинарии в
Каменец-Подольске. Правда, через некоторое время
племянник лишился материальной поддержки своего
родственника и был вынужден перейти на
естественное отделение Педагогического
института, чтобы продолжить учебу уже за
казённый счет, с обязательством отработать
восемь лет школьным учителем.
Для этого перехода существовала,
однако, и причина более глубокого порядка. В
Университете Николай Страхов попал в атмосферу,
мало похожую на ту, которая окружала его в
костромской семинарии. В атмосферу, суть которой
сам Страхов метко выразил в словах: “Бога нет, а
царя не надо”. И при этом, к удивлению Страхова,
его новые наставники и товарищи постоянно
ссылались на науку (и прежде всего
естествознание) как на основание атеизма и
нигилизма. Если в “глухом монастыре” его
детства и юности религиозность и патриотизм шли
рука об руку с уважением к науке, составляли одно
целое с “царством ума”, то теперь Страхова со
всех сторон убеждали, что “выводы науки”
требуют отказа и от религиозных, и от
национально-патриотических убеждений.
Конечно, Б.В. Никольский несколько
утрирует ситуацию, считая, что Страхов решил
изучать естественные науки специально для того,
чтобы разобраться в этом противоречии. Его
интерес к естествознанию, особенно к познанию
живой природы, был бескорыстным и
самостоятельным. К Николаю Страхову вполне
приложимы слова Ивана Аксакова о Николае
Данилевском: “Беззаветная любовь к родине была в
нём осмыслена, оправдана в сознании, укреплена
наукою и долгою работой ума” [9].
Окончив Педагогический институт (1851
г.), Страхов прослужил учителем (в одной из
петербургских гимназий) около десяти лет,
продолжая при этом научные занятия и защитив
магистерскую диссертацию по сравнительной
зоологии. Но уже тогда в нём вызревал интерес к
философии, к общему взгляду на мир, на человека,
на развитие не только биологических, но и
социальных организмов - народов. В частности,
анализируя “метод естественных наук”, он отверг
тенденцию сводить науки о живых организмах к
принципам, установленным при изучении мертвой
природы; тенденцию, на которую “опирается то
учение... что с человеком и с целым народом можно
поступать так, как мы поступаем с камнем и
металлами, то есть сделать из них то, что пожелаем
сделать” [10]. Борьба с этим учением, во всех его
разновидностях, очень скоро стала для Страхова
делом первостепенной важности.
Исключительную роль в духовном
развитии Н.Н. Страхова сыграло, конечно, его
сближение в конце 50-х годов с Аполлоном
Григорьевым и братьями Достоевскими. Страхов
принимает самое активное участие в издании
основанного ими журнала “Время”; здесь
появляется, в 1863 г., и его статья “Роковой
вопрос”, послужившая причиной закрытия журнала.
И хотя детальный разговор о
социально-философских воззрениях Страхова
пойдет ниже, остановимся уже здесь на этом весьма
важном эпизоде его творческой судьбы.
Поскольку статья Страхова была
связана с восстанием в Польше, принято считать,
что “роковой вопрос” - это вопрос
русско-польских отношений. На деле Страхов
сформулировал вопрос существенно иного порядка:
“Что такое мы, русские?”, в чём отличие “нашей
русской цивилизации” от цивилизации
европейской, представителями которой сознавали
себя поляки? Духовным двигателем мятежа польской
шляхты был, по мнению Страхова, не подлинный
национализм, но убеждение в превосходстве Европы
над “нецивилизованной” Россией, стремление
принадлежать к цивилизации “высшего типа”.
Российская империя боролась, таким образом, не с
национализмом, не с “идеей самобытности
народов”, но с космополитизмом, для которого
существует только одна “настоящая”
цивилизация, а именно - западноевропейская.
Страхов, однако, никоим образом не преувеличивал
прочность нашей позиции в этой борьбе; более
того, признавал эту позицию слабой именно
потому, что мы ещё не способны ответить на
“роковой вопрос” - кто мы такие, в чём наша
настоящая нравственная сила и нравственное
значение? Мы слишком плохо понимаем себя и потому
не можем требовать с полным правом, чтобы нас
понимали другие.
Вот эти-то мысли Страхова и вызвали
возмущение не только в правительственных кругах,
но и в среде консервативно-патриотических
публицистов. Фактически именно консервативные
“Московские Ведомости” и сыграли решающую роль
в закрытии “Времени”, обвинив его редакцию в
“полонофильстве”. Заметим, что Страхов открыто
признавал, что его статья отнюдь не была
безупречно ясной; впоследствии он писал: “Если
сам И.С. Аксаков был на минуту введен в
недоразумение, то, конечно, я был виноват” [11].
Для нас же история
“Рокового вопроса” - урок того, как легко
вспыхивают самые серьезные “недоразумения” в
среде единомышленников, как важно здесь точно
выражать свою позицию и стремиться понять новую,
порой неожиданную точку зрения, не записывая её
автора в число предателей и т.п. Добавим, что со
временем Н.Н. Страхов стал постоянным
сотрудником “Русского Вестника” и других
патриотических изданий, но взаимопонимание
между ним и более прямолинейными, не склонными
“философствовать” публицистами, типа М.Н.
Каткова, к сожалению, так и не стало достаточно
прочным.
После выхода в отставку (в 1861 г.) и до 1873
года Страхов полностью отдается творческой
работе. Мы не будем сейчас останавливаться на том
вкладе, который он внёс и тогда, и позже в русскую
литературную критику. Сошлемся здесь на
содержательное и вдумчивое предисловие Н.Н.
Скатова к сборнику литературно-критических
работ Страхова, изданному еще в советское время.
Отметим лишь один момент. Довольно настойчиво
Скатов повторяет мысль о том, что Страхов “не был
творцом”, но лишь проявлял “знаменитую
страховскую способность понимания” русской
словесности. Мысль эта нуждается, на наш взгляд, в
существенном уточнении. Дело в том, что понимание
является, по сути, особым видом творчества,
творит духовное бытие в собственном смысле
слова. Не увенчанное пониманием, ясным и глубоким
самоосмыслением, стихийное творчество остается,
можно сказать, “святыней под спудом”. В книге
“Бедность нашей литературы” (1868 г.) Страхов
подчеркивал: “Первая наша бедность есть бедность
сознания нашей духовной жизни” [12].
Имея великих художников, мы бедны их пониманием;
да и сами они порою плохо понимали себя, не умели
верно оценить настоящие “средства своего
таланта”.
Пусть Н.Н. Страхов и не был “творцом” в
привычном для нас смысле слова - он был одним из
первых, кто сумел понять историю русской
литературы как историю “постепенного развития
нашей самобытности” [13],
понять ту преемственность, которая соединяла в
одну “золотую цепь” Ломоносова, Державина,
Карамзина, Пушкина и т.д. И поэтому он был пусть
далеко не главным, но совершенно необходимым
соучастником этого великого процесса.
Добавим, что работы Страхова, такие,
как “Ход нашей литературы, начиная от
Ломоносова” (1873), остаются и по сей день лучшим
введением в историю отечественной литературы,
подлинной альтернативой тем омерзительным
“урокам изящной словесности”, которые
преподают сегодня всевозможные вайли и генисы.
Тогда же, в шестидесятые годы, Страхов
заявляет о себе в русской философии, вносит в неё
серьёзный теоретический подход к вечным
метафизическим проблемам - и прежде всего
проблеме духовного бытия, сознания, мышления и
т.д. Здесь уже нет полудетской попытки придумать
какую-то абсолютно новую философию; налицо
стремление определить задачи русской философии
в связи с осмыслением европейской философской
традиции, её достижений и её уроков. Главным
итогом философского творчества Н.Н. Страхова в
этот период стала книга “Мир как целое” (1872),
которую он писал (и издавал в форме отдельных
“писем”) ещё с начала 60-х годов. Эта книга,
особенно её первая
часть, посвященная проблеме человека и его месту
в природе, позволяет с полным правом говорить о
Страхове как основоположнике философской
антропологии в России. “Для человека исходною
точкою всегда будет и должен быть человек” [14] -
эти слова Страхова стали лейтмотивом целого
направления русской философии, ясно
определившего особую задачу философии, отличную
от задач богословия и науки: задачу прояснения и
углубления самосознания человека.
И по той же линии развивалась
деятельность Страхова как публициста - по линии
русского самосознания, по направлению к столь
необходимому ответу на вопрос “что такое мы,
русские?”. Но сначала отметим один весьма
примечательный момент биографии Страхова,
связанный с 1873 годом.
В этот год он возвращается на казённую
службу, определяется сотрудником Императорской
Публичной Библиотеки в Петербурге. Основной
мотив был, что и говорить, прозаическим:
невозможность существовать сколь-нибудь сносно
только литературным трудом. Но было и другое
обстоятельство, о котором Страхов говорит так:
“Я постоянно чувствовал недостаток образования
и поэтому решил: лет десять ничего не писать и
учиться. Я стал покупать книги (это была моя
охота, развлечение) и проводил вечера за чтением
философов, богословов, поэтов - всего важнейшего во всемирной
литературе” [15].
Впору развести руками. Будучи к тому
времени автором многих работ, в которых даже
недруг не мог не заметить обширной эрудиции,
основательного знания и “всемирной
литературы”, и различных областей науки, -
Страхов чувствовал в себе “недостаток
образования”! Думаю, однако, что дело не в
“образовании”, но именно в страховском
понимании условий и задач подлинного творчества.
Страхов органически не терпел умственного
провинциализма (который то и дело путают с
самобытностью), никогда не изобретал философских
и прочих “велосипедов”. Если он имел веские
основания предполагать, что человеческая мысль
уже установила в том или ином вопросе нечто
важное - он и стремился в первую очередь
познакомиться с этим важным, понять отправной
пункт дальнейших исследований, найти
“правильную постановку” новых вопросов. Он
нигде не писал о “соборном разуме”, но на деле
проявлял то внимание к чужой мысли, которое
составляет элементарную основу настоящей
духовной соборности человеческого рода.
Обещание “лет десять ничего не
писать” Страхов, к счастью, выполнил лишь
отчасти: после книги “Мир как целое” и до начала
80-х годов он публикует только статьи в
периодических изданиях. А затем начинает
выходить его главное
философско-публицистическое произведение:
“Борьба с Западом”. Два первых выпуска
появляются в 1882 и 1883 годах; затем переиздаются с
существенными дополнениями; третий выпуск
выходит уже в 1896 году. “Борьба с Западом” - это
прежде всего широкая панорама ХIХ века, о котором
Страхов говорит так: “Самодовольный век всё больше и больше
отрывается от прошлого, всё меньше и меньше
понимает истинный смысл жизни” [16].
Стоит ли внимательно вглядываться в такой век? Не
только стоит, но и совершенно необходимо. Страхов
ясно предвидит, что фундаментальные заблуждения
ХIХ века не исчезнут с его концом, что они могут
даже углубиться в дальнейшем. Действительно, в
чем характерные особенности этих заблуждений?
Страхов говорит о них следующее: “Нелепое,
невежественное убеждение, что мы, теперешние
люди, выше людей прошлого времени; нелепая
уверенность, что здесь, на земле, возможно
какое-то благополучие, мирящееся со всеми
противоречиями судьбы и природы”. Но разве не
перекочевали именно эти “убеждения” в
сегодняшний день, разве не властвуют они над
умами на исходе двадцатого века ещё сильнее,
чем столетие назад? Мы по-прежнему утверждаем
своё мнимое превосходство с помощью отрицания
нашего прошлого, то издеваясь над ним, то
“каясь” за мнимые преступления наших предков,
вместо того, чтобы думать о собственных
преступлениях. И мы по-прежнему верим в некий
“рай на земле”, под эгидой творцов очередного
“мирового порядка”. Другими словами, нами
владеет тот же самый “дух времени”, который был
опознан и отвергнут Н.Н. Страховым. Точнее, не
просто отвергнут, но подвергнут тщательному и
глубокому анализу. При этом Страхов
рассматривает и те конкретные явления (Парижская
коммуна, политический терроризм, культ
естественных наук, феминизм, “теория
естественного отбора” и т.д.), в которых
выразился дух ХХ века, и его наиболее
значительных выразителей (Л. Фейербах, Джон Ст.
Милль, Э. Ренан, Ч. Дарвин и др.). Вместе с тем, он
стремится установить, какое влияние оказал этот
дух на русского человека, и даже точнее - какое сопротивление
сумел оказать этому духу именно русский человек.
Вот, пожалуй, самый интересный и важный аспект
“Борьбы с Западом”. Здесь на первом плане стоят
две фигуры, две далеко не сходные личности - А.И.
Герцен и Н.Я. Данилевский. Обширное исследование
творческой судьбы Герцена, которым и открывался
первый выпуск “Борьбы”, является, безусловно,
лучшим из всего, что написано об этом крупнейшем
русском “западнике”. Западнике, который, в конце
концов, совершил “акт возмущения” против
Запада, нашёл свою единственную опору в вере в
Россию - но не сумел подкрепить эту веру
пониманием России, до конца жизни прибегал к
помощи “идей совершенно ей чуждых, совершенно
посторонних” [17]. Вера, не перешедшая в понимание, - вот
в чём, по мысли Страхова, состояла трагедия
Александра Герцена.
В ином ключе написаны главы “Борьбы”,
посвященные Н.Я. Данилевскому. О них мы ещё будем
говорить ниже, а пока отметим, что Страхову
пришлось уделить много места защите
Данилевского от “критики” В.С. Соловьёва,
который был одержим какой-то маниакальной
ненавистью к автору “России и Европы”. Но такая, по сути
вынужденная позиция позволила Страхову не
только исследовать путь к пониманию России,
проложенный Данилевским, но и осветить тот тупик,
в который вела идея “вселенской теократии” у
Соловьёва. В этой идее, считает Страхов,
проявилась та же иллюзия исторически
достижимого земного благополучия, которая
владела и европейским сознанием. И что особенно
важно, эта внешне гуманная иллюзия имеет
оборотную сторону, на которую и указал Страхов,
отмечая: “г. Соловьев называет начало народности
началом племенного раздора... несравненно
основательнее можно бы назвать начало единства
человечества началом насилия” [18].
Принцип “всемирного единства”, “мирового
порядка” и т.п. - источник тотального насилия над
народами; это Н.Н. Страхов понял задолго до того,
как сей принцип воплотился в политическую
практику ХХ века.
80-е годы стали временем, когда, наконец,
раскрылся огромный духовный капитал,
накопленный Н.Н. Страховым. Появляется его
замечательная философская пропедевтика - книга
“Об основных понятиях психологии и физиологии”;
полный сборник “Критических статей об И.С.
Тургеневе и Л.Н. Толстом”, написанных за четверть
века, а также “Заметки о Пушкине и других
поэтах”; книга “О вечных истинах”, где критика
спиритизма и “спиритов” становится для
Страхова поводом к размышлению о самых глубоких
религиозно-философских проблемах. В начале 90-х
годов выходит второе, существенно дополненное
издание “Мира как целое”; сборник статей,
написанных ещё в 60-е годы, - “Из истории
литературного нигилизма”; первое издание
“Философских очерков”; книга “Воспоминаний и
отрывков”... К чему это простое перечисление? -
спросит читатель. Да хотя бы к тому, чтобы
напомнить: за последнее десятилетие “гласности
и демократии” не появилось, кажется, ни одного
отдельного издания трудов Н.Н. Страхова. Его
возвращение к современному читателю пока упорно
и успешно “откладывается”.
Весной 1895 г. Страхов перенес тяжелую
операцию, но продолжал работать над книгой
“Письма о философии”, в начале которой писал:
“Понимать то, чего прежде не понимал, и открывать
то, чего прежде не знал, - такова моя судьба до
конца” [19].
Конец был уже очень близок; Николая Николаевича
Страхова не стало 24 января (ст. стиля) 1896 года.
3.
На вопрос, в чем
заключается главный вклад Н.Н. Страхова в
развитие русского самосознания, следовало бы,
вероятно, ответить: в самом Страхове. Именно это
почувствовал Василий Розанов: “В Страхове, в
нём самом, содержится вечная необходимость
вернуться к нему. И вернутся, и оглянутся, не наше
поколение, то следующее или следующие” [20].
Вернутся, когда поймут, что нам нужны не столько
готовые “идеи”, сколько пример, образец, эталон
мыслящего русского человека. Неслучайно все те,
кто смотрел на Страхова русскими глазами,
отзывались о его уме в терминах, прилагаемых
обычно к человеческой личности в целом:
благородство, простота, сердечность. Всего яснее
выразил такое восприятие Страхова Лев Толстой,
когда писал: “Одно из счастий, за которое я
благодарен судьбе, это то, что есть Н.Н. Страхов” [21].
Примечательно, что и Лев Толстой, и
Страхов очень высоко ценили почти неизвестного
сегодня русского философа Павла
Александровича Бакунина (1820 - 1900), который
написал когда-то: “Чтобы мыслить действительным
образом, надо действительным образом быть самим
собою” [22].
Помня эту глубинную связь между тем, что мы есть,
и тем, что мы думаем, попытаемся выделить главное
в философско-публицистическом наследии Н.Н.
Страхова.
Отправную точку даёт нам сам Страхов,
замечая в своих, по сути дела,
автобиографических, “Воспоминаниях о Ф.М.
Достоевском”: “Мне часто казалось, говоря
словами Тютчева, что
Умом Россию не понять
..............................................
В Россию можно только верить”.
|
Презрение
европейцев было только постоянным жалом, сильнее
возбуждавшим и преданность народному духу, и
понимание этого духа” [23].
Здесь Страхов
выразил - с помощью гениальных, но так часто
цитируемых по отдельности, строк Тютчева -
самую суть своих взглядов, своё основное
убеждение в том, что понимание России
неотделимо от веры в Россию, от преданности
русскому народному духу. И как ни проста эта
ключевая мысль Страхова, она стоит того, чтобы в
ней внимательно разобраться.
Прежде всего, о
каком уме идёт речь у Тютчева? Страхов убежден -
именно об уме, чуждом России, уме по сути
“иноплеменном”. Беда в том, пишет он, что “мы не
умеем жить своим умом, что вся духовная работа,
какая у нас совершается, лишена главного
качества: прямой связи с нашей жизнью, с нашими
собственными духовными инстинктами” [24].
Вот главная опасность - “мы избалованы обилием
чужого ума”, барахтаемся в массе чужих идей и
учений, не умея при этом “отличить того, что
имеет настоящую силу, от того, что только
принимает вид силы” [25]. И
сегодня, спустя столетие, это, к сожалению, даже
более верно, чем тогда, когда писались эти строки.
Но как же быть до
тех пор, пока мы имеем тот ум, который имеем? Ответ
один: работать над его прояснением и углублением,
над восстановлением его связи с нашими
собственными духовными инстинктами - работать,
не впадая в отчаяние. И здесь выступает на первый
план то, о чем говорил Ф.И. Тютчев, - вера в
Россию, в русский народ, в русского человека. Для
Страхова вера - исходная точка понимания,
“просветления ума”; понимание начинается
именно как понимание необходимости веры. Он
пишет: “Если мы не понимаем веры в Россию, то мы
ровно ничего не поймём в русской литературе... не
только все большие русские писатели, от
Ломоносова до Льва Толстого, проникнуты верой в
Россию, но эта вера была существенным, главным
условием их деятельности” [26]. И
далее, в более общем виде: “Без веры в себя
невозможно никакое развитие”.
Вера в Россию
означала для Страхова не веру в “сфинкса”, в
“непонятное для себя и для других чудище мира”,
но веру русского человека в самого себя, именно в
качестве русского человека.
Кто же это такой -
русский человек? Прежде всего это “выразитель
народного духа”, заключающего в себе “ту
таинственную силу, от которой в глубочайшем
корне зависят все проявления человеческой души” [27].
Вот коренной или, если угодно, метафизический
смысл веры в Россию - это вера в духовную
реальность, которая глубже всех своих
проявлений, не вмещается ни в какие “факты” и
“формулы”. Кто лишён этой веры, тот оторван от
настоящего источника понимания России, лишён
способности верно судить о России и русском
народе. Именно поэтому, замечает Страхов,
“маловерный Чаадаев” не понимал, как мог
император Николай I смеяться на представлении
“Ревизора”, где ему показали “пороки русской
жизни”. Русскому царю, “при его обилии веры, не
могло прийти в голову бояться того, что глупость
и подлость, встречающиеся у нас, всенародно
казнятся на сцене” [28],-
пишет Страхов. Отметим, что отношение Страхова к
Чаадаеву перекликается с тем, как определял
позицию этого мыслителя Н.Я. Данилевский: “Я
люблю свое отечество, но должен сознаться, что
проку в нем никакого нет. Под таким внешним...
патриотизмом кроется горькое сомнение в самом
себе - кроется сознание жалкого банкротства” [29].
Говоря о
концепции “народного духа” у Страхова (да и у
старших славянофилов), нетрудно, конечно,
отыскать здесь влияние некоторых европейских,
прежде всего германских мыслителей: Гердера,
Гегеля, В. Гумбольдта. Только при крайней
наивности можно увидеть в этом нечто порочащее
русского философа. В паническом страхе перед
любым “влиянием Запада”, независимо от
характера этого влияния, проявляется то же самое
неверие в самобытную силу русского духа. Говоря о
плодотворных влияниях европейской культуры
на русскую, Страхов подчеркивал: “Европейские
влияния только пробудили те струны и силы,
которые уже хранились в русских душах” [30].
Итак, то главное,
что дает нам вера в Россию, - это переживание
метафизической реальности русского духа;
метафизической, то есть не сводимой к “наличной
действительности”. Русский дух - это, во-первых,
та творческая сила, которая позволяет
отдельному человеку (писателю, мыслителю,
политику и т.д.) совершить нечто, казалось бы,
“непосильное”, подлинно великое. Во-вторых, это
та “общая почва”, на которой созидается русская
культура, русская государственность, русская
жизнь во всех её здоровых проявлениях. Ключевая
мысль такого рода была ясно выражена ещё в
объявлении об издании журнала “Время”; Страхов
приводит текст этого объявления в своих
“Воспоминаниях о Ф.М. Достоевском”, выделяя
слова: “Мы убедились, наконец, что мы тоже
отдельная национальность, в высшей степени
самобытная, и что наша задача - создать себе новую
форму, нашу собственную, взятую из почвы нашей,
взятую из народного духа и из народных начал” [31].
Русскому
народному духу должна соответствовать своя
самобытная форма культурно-государственного
существования, потому что сам этот дух обладает,
по словам Страхова, своей “внутренней формой”,
имеет - если вспомнить Тютчева - свою “особенную
стать”. Но все это - и форма, и “стать”, и
“духовный тип” русской жизни - уже не является
только предметом веры, а требует познания и
понимания. Тем более, что можно, даже веря в
Россию, в русский дух, совершить здесь
определенную подмену понятий, заменить
“особенную стать” чем-то совсем другим.
Действительно, за
глубоко созвучными Страхову словами о “почве” и
“народном духе” в упомянутом выше объявлении
следует мысль совершенно иного рода: “Мы
предугадываем, и предугадываем с благоговением,
что характер нашей будущей деятельности должен
быть в высшей степени общечеловеческим, что русская
идея, может быть, будет синтезом всех тех идей,
которые с таким упорством, с таким мужеством
развивает Европа в отдельных своих
национальностях; что, может быть, всё враждебное
в этих идеях найдет свое примирение в развитии
русской народности”.
Чем объяснить
этот скачок от “формы нашей собственной, взятой
из почвы нашей” - к “синтезу” чужих идей,
возникших на совсем иной почве, выражающих
духовный склад не русского, а совсем других
народов? В Достоевском, пишет Страхов, проявилась
вера в то, что “русскому народу даны духовные
силы, с которыми он может совершить всемирный
синтез, то есть найти исход и примирение для
всех противоречий, какие обнаружились в
историческом человечестве” [32].
Эту веру как таковую Страхов не мог осуждать,
ибо она была верой в великую духовную силу
русского народа. И пока идея “всемирного
синтеза” не вступала в противоречие с первой,
основной и реальной задачей, задачей
созидания своей собственной национальной формы,
Страхов не видел оснований для полемики,
справедливо считая Ф.М. Достоевского своим
единомышленником в главном. Но когда - уже не у
Достоевского, а у В.С. Соловьёва - задача
“всемирного синтеза” выступила именно как
отрицание “особенной стати” России, как запрет
на борьбу русского народа за свой духовный тип,
свою национальную форму жизни, - Страхов
немедленно поднял свой голос против
новоявленного “пророка”. Это было тем более
необходимо, что тот же Соловьёв яростно нападал
на творчество мыслителя, который к тому времени
внёс решающую ясность в понимание “особенной
стати” России, - на творчество Н.Я. Данилевского.
Полемика между
В.С. Соловьёвым и Н.Н. Страховым будет
когда-нибудь собрана и издана в назидание
потомкам, как урок того, что понятия благородства
и низости, порядочности и мошенничества - отнюдь
не посторонние в философии. В.В. Розанов подметил
это и весьма метко сравнил отношение Соловьёва к
Страхову с отношением Швабрина к капитану
Белогорской крепости: ненависть под маской
презрения. Что касается самого Страхова, то своё
отношение к Соловьёву он выразил вполне ясно и
притом с известной долей сочувствия, когда писал:
“В нём отзывается всё та же наша главная болезнь,
неверие в Россию, ослепление западными идеалами,
то, что мы называли оторванностью от почвы” [33].
Впрочем, не в
Соловьёве дело; основное значение статей
Страхова “против Соловьёва” связано с защитой
учения Н.Я. Данилевского о
культурно-исторических типах. Учения, которое, по
убеждению Страхова, давало ключ к пониманию
России, к уяснению её “особенной стати” и к
определению того философско-исторического
“аршина”, с помощью которого эта “стать” может
быть верно измерена.
“Главная заслуга Н.Я. Данилевского
состоит в том, что он отверг предрассудок
космополитизма в истории” [34], -
писал Страхов. Этот предрассудок связан с
непониманием того, что “разнообразие народов
есть глубокий факт, коренящийся в самой природе
человечества”
[35], факт, определяющий историю именно
как историю народов. Конечно, реальная
история никогда не скрывала своего настоящего
лица - но это лицо надо было суметь увидеть.
Именно это и сделал Данилевский путём
“внимательного всматривания” в характер
исторических явлений, используя “твердый
научный прием”: определение той естественной
системы, которую образуют исторические факты.
Заметим, что
значение этого “самого широкого и свободного
приема” Страхов осознал ещё до знакомства с
трудом Данилевского “Россия и Европа”; в 1865 г. он
отмечал: “Этнограф при описании народов,
лингвист при рассуждении об языках, эстетик при
рассмотрении изящных произведений искусства -
все должны привести предметы своего изучения в
их естественный порядок, в естественную
систему” [36]. И суть дела не в том, что это полезно,
экономит время и т.д.; суть в том, что “система,
классификация есть не только рассудочный прием,
она есть действительное явление природы” [37]. Вот главное:
естественная система выражает порядок, царящий в
самой природе, а не просто упорядочивает хаос
опытных данных по рассудочным схемам. Понятие
“естественной системы” не требует, таким
образом, абсолютного порядка, единообразия;
оно откликается на действительное многообразие,
многоликость мира.
В приложении к
истории этот подход раскрывает многомерность
исторического пространства, оправдывает каждую
историческую эпоху как имеющую свой собственный
смысл и значение:
нет на земле ничтожного мгновенья...
Нет ничтожных
эпох; тем более нет ничтожных народов, этих
настоящих “деятелей истории”. Конечно, есть
порядок, есть иерархия, поскольку в естественной
системе “каждое существо... занимает своё
настоящее, естественное место” - но в решающем
смысле каждое место, каким бы скромным оно ни
было, имеет своё достоинство, ставит перед каждым
народом его собственную задачу - задачу
“осуществления своего типа”, в которой, по
словам Страхова, заключается весь смысл
развития. “Народ принадлежит только самому себе,
и можно только служить ему, но не посягать на него
как на орудие для придуманных нами целей” [38].
В понятии
культурно-исторического типа Данилевский нашёл,
по мнению Страхова, тот “аршин” (“общий” только
по форме, но не по содержанию), который можно
прилагать ко всем народам, не отрицая при этом
“особенную стать” каждого из них. Впрочем, сам
Страхов чаще называл этот “аршин” началом
национальности. И это - не замена одного
понятия другим. Метафизический корень
культурно-исторического типа составляет именно
национальный дух как сила и почва, производящая
соответствующую себе культурно-государственную
форму. Еще в 1864 году Страхов писал: “Живое,
органическое государство всегда национально;
разница может быть только в том, насколько ясно и
сознательно оно понимает свои национальные
начала и требования; чем яснее, тем для него
лучше” [39].
“К сожалению - добавляет Страхов - идея
отвлеченного государства у нас очень
распространена и мешает пониманию самых простых
истин”. Всё это совершенно созвучно тому, что писал несколько лет
спустя Данилевский: “Народность составляет...
существенную основу государства, самую причину
его существования - и главная цель его и есть
именно сохранение народности” [40], в
свою очередь добавляя, что “сознание
национальности как государственного принципа”
ещё недостаточно развито. Созвучно это, конечно,
и раскрытию начала народности, или
национальности, в работах младших современников
Страхова и Данилевского - П.Е. Астафьева и Н.Г.
Дебольского [41]. Можно, таким образом, говорить, что
Николай Страхов был одним из выразителей русского
национализма, тем мыслителем, который выдвигал
и защищал именно идеологию национализма,
основные принципы понимания России, русского
народа, русского человека.
4.
Тема русского
человека проходит через все творчество Н.Н.
Страхова; может быть, именно поэтому так трудно
рассматривать её как некую особую тему,
специальную “главу” в его книгах. Вот он пишет о
“ходе русской литературы”; конкретно - приводит
мнение Некрасова, что стыдно в “годину горя” воспевать “красу
долин” и “ласки милой”. Страхов не вступает
здесь в теоретический спор с нашим замечательным
поэтом. Он просто напоминает, что простой русский
человек как раз и делает то, что в данном случае
осуждает Некрасов: “в горе и труде он поёт про синее море и
про милого друга” [42].
Этот пример показывает: Страхов не смотрел на
русского человека сквозь призму русской
литературы, как бы высоко он её ни ценил. Скорее
наоборот - он судил о русских писателях по их
способности выразить правду о русском
национальном характере. И пора, наконец, понять,
что Страхов вовсе не ставил Л.Н. Толстого “выше”
Ф.М. Достоевского; он прекрасно понимал,
насколько бессмысленна подобная “иерархия” в
случае подлинных гениев.
Он считал, однако,
что два великих художника выразили разные (хоть и
внутренне связанные) черты русского духа; ещё
вернее - разные проявления этого духа в
существенно разных ситуациях. Достоевский - в
ситуации трагической борьбы русского человека
за самого себя, Лев Толстой - в ситуации твёрдой
верности того же человека своим национальным
инстинктам.
В статьях о
“Преступлении и наказании” Страхов
подчёркивает, что в Раскольникове “помутился”
(по выражению самого Достоевского) образ
русского человека, произошла внутренняя измена
самому себе. “Что вы, что вы над собой сделали!” -
в этом восклицании Сони Мармеладовой ключ к
трагедии наиболее ярких, написанных с
максимальным художественным мастерством героев
Достоевского. Страхов отдает самую высокую дань
стремлению Достоевского изобразить в том же
Раскольникове возвращение русского человека
к самому себе: “Сперва поглотила его извращённая
идея, а потом в нём с неодолимою силою
просыпается человек, человеческая душа и
мучит его своим пробуждением, с которым он
старается совладать” [43]. И
всё-таки художественный гений Достоевского
заключается, по мнению Страхова, скорее в
изображении борьбы с властью “извращённых
идей” над душою русского человека, чем в
постижении фундаментальной природы этой души.
Допускаю, что здесь Страхов несправедлив в
отношении Достоевского; но он оказался, по сути
дела, прав в отношении очень и очень многих
“толкователей” гениального писателя - и по сей
день их привлекает в творчестве Достоевского
именно разбор и смакование “извращённых идей”,
нередко отождествляемых ими с душою русского
человека, с его национальным характером.
Тем характером,
суть которого вернее всего опознана и
художественно выражена, по мнению Страхова, в
произведениях Льва Толстого, писателя,
обладавшего чудесной способностью увидеть
“великое в малом”, найти тот след, который ведет
к существу человека: “след истинной красоты -
истинного человеческого достоинства”. Именно в
произведениях Толстого “среди всего
разнообразия лиц и событий мы чувствуем
присутствие каких-то твердых и незыблемых начал,
на которых держится жизнь” [44].
Это присутствие “вечного в человеке”,
считает Страхов, важнее любых, самых
захватывающих проявлений духовной “шаткости” -
ибо не в “шаткости” сила человека, та сила,
которая проявляется в простых русских людях; они
“знают, чего от них требует их человеческое
достоинство - что им следует делать по отношению
к себе, другим людям и к родине” [45].
Отмечая
привязанность Н.Н. Страхова к здоровым началам
русской жизни, вряд ли можно согласиться с
мнением, что он был равнодушен к сложности и
противоречивости русского человека. В конце
концов, именно Страхов точнее всего определил
основную “антиномию” нашего национального
характера, когда писал: “Обнаружив ещё
неслыханную в мире стойкость, живучесть и силу
распространения, русский народ, однако же,
никогда не отдавался исключительно материальным
и государственным интересам, а, напротив,
постоянно жил и живёт в некоторой духовной
области, в которой видит свою истинную родину,
свой высший интерес” [46].
Другое дело, что в этой двойной установке на “земное” и
“небесное” Страхов подчеркивает не
противоречие, не конфликт, но именно двуединство
- характерное для русского человека сознание
какой-то таинственной связи между Святой Русью и
Великой Россией.
Заметим, что в
самом Николае Страхове соединились два, в
определенном смысле “противоречивых”, начала.
Фундамент его личности был заложен в русской
провинции, православной и почвенной, где русский
человек как-то “ближе” к Святой Руси. Но
развитие личности Страхова теснейшим образом
связано с Петербургом, столицей Российской империи.
Не чуждый жалобам на “атмосферу” Петербурга,
Страхов, однако, проникся убеждением, что град
Петров выражает очень существенную черту
русского духа, волю России к великому
национально-государственному существованию. И
он верил вместе
с Достоевским - если эта воля соединится с
коренной русской духовностью, тогда именно “в
Петербурге, наконец, зародится наше особенное
национальное воззрение” [47].
То, что Страхов
был далёк от недооценки Достоевского и борьбы
последнего против власти “извращённых идей”,
доказывает в первую очередь то внимание, которое
сам Страхов уделил анализу этой власти, как она
проявилась в феномене нигилизма.
5.
“Письма о нигилизме”
были написаны Страховым сразу после
цареубийства 1 марта 1881 г. И прежде всего отметим,
что в этих “Письмах” нет и следа той слегка
завуалированной апологии нигилизма, которая
характерна для ряда западных философов, начиная
с Ф. Ницше. Для Страхова нигилизм - явление по сути
своей духовно жалкое, проявление “бездарного
сердца”, настроение людей, которые “умны только
чужой глупостью”. Настоящую духовную глубину
Страхов находит не в нигилизме, а в способности
человека противостоять тому “разврату
мысли”, который несёт с собою нигилизм. Но чтобы
выявить эту глубину, эти “реальные начала
человеческой жизни”, необходимо понять и то, что
их отрицает.
Подобное
отрицание развивается, как и любая болезнь,
поэтапно. Нигилизм начинается с неверного
представления о достоинстве человеческого ума,
знания, просвещения - всего того, что было
Страхову особенно близко и дорого. “Коренная
черта нигилизма - это гордость своим умом и
просвещением, какими- то правильными понятиями и
разумными взглядами, до которых наконец достигло
будто бы наше время” [48].
Взяв за основу “наше время”, человеческий ум
теряет связь с вечными истинами,
превращается в “ум века сего”. А вместе с тем в
сознании начинающего нигилиста представление о
человеке-соотечественнике вытесняется
представлением о человеке-современнике,
который связан с ним не фундаментальными
константами духовной и физической жизни, а
сугубо внешней связью “одновременного
существования”, связью, которая легко
разрывается. Чем больше такой “начинающий”
нигилист поклоняется идолу современности, тем
меньше он ценит других людей, тем охотнее
обличает их “невежество”, “отсталость” и т.д.
Обличает и находит в этом обличении мнимое
доказательство своего превосходства.
Так происходит та
роковая переориентация внимания, которая
составляет следующий шаг в развитии нигилизма -
переориентация на поиск зла, неважно, идет ли
речь о действительном или о мнимом зле. Суть не в
этом, а в стремлении нигилиста отыскать зло во
что бы то ни стало, обличить зло как подоплеку
любого добра. “Зло есть необходимая пища для его
души, и он отыскивает его всюду, даже там, где и
самая мысль
о зле не может прийти в голову непросвещенным
людям” [49].
Здесь Страхов говорит, только простыми словами, о
том же феномене, который позже отметил Ницше:
“Глаз нигилиста идеализирует в сторону
безобразия”
[50]. Нигилист видит (якобы видит) “зло”
и “безобразие” повсюду - в детской, в келье
монаха, в кабинете мыслителя, в мастерской
художника. Невинность и чистота, подвиг и
подвижничество - все это и многое другое
становится для нигилиста лишь “ширмой зла”. И
если мы вспомним хотя бы ту популярность, которую
приобрел в ХХ веке фрейдизм, мы поймем, что
сказанное Страховым относится к нашему времени
не меньше, чем к его веку.
“Зло как пища
души” - вот, по Страхову (и разве не по
Достоевскому тоже?), страшная суть нигилизма,
страшная и одновременно убогая. И не надо думать,
что подобный рацион характерен только для
каких-то исключительных выродков. “Нескончаемое
злоречие... вот занятие просвещённых людей”, -
замечает Страхов, и замечает, как всегда, точно.
Но здесь
начинается последний этап, этап
“самоуничтожения” нигилиста, но, увы, не
нигилизма как такового. Жить только злом нельзя,
и в нигилизме оказываются востребованными те
самые “вековечные начала”, которые он так
яростно отрицал - но востребованы в сугубо
извращённой форме. Это касается прежде всего,
религии. “Мы откинули религию, но откинуть
религиозность мы не могли”, - пишет Страхов. В
результате возникает суррогат религии,
характерный именно для нигилизма в его крайней
революционной форме. “Их нравственный разрыв с
обществом, с греховным миром, жизнь отщепенцев,
тайные сходки... опасность и перспектива
самопожертвования - всё это черты, в которых
может искать себе удовлетворения извращённое
религиозное чувство. Как видно, легче человеку
поклониться злу, чем остаться вовсе без предмета
поклонения” [51]. Так возникает феномен, который
Страхов называет “гражданским монашеством”
нигилистов; но проку от этого мнимого монашества
и мнимой религиозности нет. Всё это превращается
у нигилиста лишь в “предлог для мучения, для того
душевного изворота, которым заглушается пустота
души”. Нигилист готов идти - и идёт - на смерть, но
его “подвиг” - лишь финальный аккорд самообмана;
самообмана, который “позволяет ему быть
зверем и считать себя святым” [52].
Нетрудно
заметить, что Страхов указывает здесь на те черты
“революционной психологии”, открытие которых
почему-то приписывается сегодня авторам “Вех” -
С.Н. Булгакову, С.Л. Франку и т.д. При этом акценты
Страхова расставлены куда яснее и точнее. Суть не
в том, что русский человек якобы изначально
соединяет в себе “зверя” и “ангела” (так что
нигилист-революционер - это как бы “русский
наполовину”.). Для русского человека нигилизм -
это именно “полное отречение от своего духа и от
глубочайших инстинктов” [53],
это тотальная измена самому себе.
И Страхов ясно
называет тот “глубочайший инстинкт”, который
“содержит всю тайну роста, силы и развития нашей
земли”. Русский человек, верный своему
национальному духу, “всякую минуту готов к горю
и беде, он не забывает своего смертного часа, для
него жить - значит исполнять некоторый долг,
нести возложенное бремя” [54].
Вот то главное, что даёт русскому человеку силу
устоять перед “развратом мысли”, перед
разъедающим душу напором нигилизма. Последний
стремится погрузить человека в ужас перед силою
зла, хочет загипнотизировать его тем “ничто”,
которое якобы таится в каждой частице бытия. Всё
это нигилизм договорил на языке своей философии
уже после Страхова, который, однако, точно уловил
эту основную “интенцию” нигилизма. Уловил и
ответил указанием на русского человека, которого
не запугать наплывом всяческих
“экзистенциальных ситуаций” - к ним он
внутренне готов по самой сути своего русского
духа.
Кто-то поспешит,
вероятно, отождествить духовную стойкость
русского человека, его “непреклонное терпение”
- с Православием. Речь идёт, однако, именно о
национальном инстинкте, о природе русского
человека как такового. Конечно, соединяясь с
православными убеждениями, эта природа
проясняется и укрепляется - но там, где её нет,
Православие не создаст русского человека “из
ничего”. Вот этой природы, глубоко созвучной
Православию, но по сути национальной, не видели
те, кто заявлял ещё в прошлом веке: “Без
православия наша народность - дрянь...” [55]. К
сожалению, подобное фарисейство процветает и
поныне, будучи по существу антинациональным и,
добавим, антиправославным. Ведь для подлинного
Православия величие Бога раскрывается прежде
всего в достоинстве человека: “Покажи мне твоего
человека, и я покажу тебе моего Бога” [56].
Николай Страхов
показал своего человека - русского человека.
И тем самым исполнил завет, усвоенный им на
пороге жизни, в “глухом монастыре России”.
Примечания.
- Г р о т Н.Я. “Памяти
Н.Н.Страхова” Вопросы философии и психологии,
кн.32, 1896г., с.304
- С т р а х о в Н.Н. Об основных
понятиях психологии и физиологии СПб., 1886, с. 7.
- Н и к о
л ь с к и й Б.В. Н.Н. Страхов.
Критико-биографический очерк - “Исторический
Вестник”, т. 64 (1896), с. 257.
- Р о з а
н о в В.В. Литературные изгнанники, т. 1, СПб., 1913,
с.522.
- Н и к о
л ь с к и й Б.В., указ. соч., с.217.
- Там же,
с.
217 - 218.
- С т р а х о в Н.Н. “Борьба с
Западом в нашей литературе”, кн. 2, 3-е изд., Киев,
1897, с. 233.
- Никольский
Б.В., указ. соч., с. 253.
- С т р а
х о в Н.Н. “Борьба с Западом в нашей литературе”
кн. 3, 2-е изд, Киев, 1898, с. 128.
- О
методе естественных наук. СПб., 1865, с. 77.
- С т р а
х о в Н.Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском. - в кн.
“Ф.М. Достоевский в воспоминаниях
современников”, т. 1, М., 1990,. 447.
- С т р а
х о в Н.Н. Литературная критика. М., 1984, с. 45.
- Борьба
с Западом, кн. 2, 1883, с. 11.
- С т р а
х о в Н.Н. Мир как целое, 2-е изд., СПб., 1892, с. XII.
- Н и к о
л ь с к и й Б.В., указ. соч., с. 261.
- Борьба
с Западом, кн. 1, 2-е изд., СПб., 1887, с.III
- Там
же, с. 119.
- Борьба
с Западом, кн. 2, 3-е изд., с. 212.
- Вопросы философии и психологии,
(1902 г.), кн.61, с. 784.
- Р о з а
н о в В.В., указ. соч., с. 242.
- С т р а
х о в Н.Н. Литературная критика, с. 5.
- Б а к у
н и н П.А. Основы веры и знания СПб., 1886, с. 43.
- Воспоминания
о Ф.М. Достоевском, указ. изд., с. 448.
- Борьба
с Западом, кн. 1, указ. изд., с.I.
- Борьба
с Западом, кн. 2, 1883, с.VII, XV.
- Там
же, с. 31 - 32.
- Там
же, с. 8.
- Там
же, с. 32.
- Д а н и
л е в с к и й Н.Я. Россия и Европа, 5-е изд., СПб., 1895, с.
67.
- Борьба
с Западом, кн. 2, 1883, с. 17.
- Воспоминания
о Ф.М. Достоевском, указ. изд., с. 386.
- Там
же, с. 391.
- Борьба
с Западом, кн. 3, указ. изд., с. 151.
- Там
же, с. 131.
- Там
же, с. 174.
- Методы
естественных наук, с. 17.
- Там
же, с. 10.
- Борьба
с Западом, кн. 3, с. 146.
- Из
истории литературного нигилизма, СПб., 1890, с. 473.
- Россия
и Европа, указ. изд., с. 237.
- О
творчестве этих мыслителей см.: “Молодая
гвардия” № 11, 1996 и “Русское самосознание” № 1-2
(1994 - 95).
- Борьба
с Западом, кн. 2, 1883, с. 54.
- Литературная
критика, с. 111.
- Там же, с. 284.
- Там
же, с.
285.
- Борьба
с Западом, кн. 1, указ. изд., с. V.
- Из
истории литературного нигилизма, указ. изд., с. 11.
- Борьба
с Западом, кн. 2, 1883, с. 217.
- Там же
с 219.
- Борьба
с Западом, кн. 2, 1883, с. 238 - 239.
- Там
же, с. 216.
- Там же, с. 214.
- Там
же, с. 205 - 206.
- Эти
слова из письма А.И. Кошелева к А.С. Хомякову часто
(и притом весьма охотно) приписываются именно
Хомякову.
- Арх.
Киприан (Керн). “Антропология св. Григория
Паламы” М. 1996, с. 73.
|
