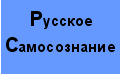Николай Ильин.
“Вы непременно хотите, чтобы я писал о философии, о самых общих её вопросах. Знаете ли? - мне это и очень лестно, и очень страшно. Для меня ведь, по старому, философия есть самая высокая и самая трудная наука; не малым делом всегда считал я говорить во имя этой науки и заслужить имя действительного философа. Если до сих пор я ограничивался только частными вопросами, или даже одной постановкой вопросов, то делал это прежде всего из великого уважения к философии” [1].
В силу известного психологического закона, мы не склонны оценивать человека выше, чем он сам себя оценивает. И потому самодовольный софист, с его притязаниями на мудрость о человеке (антропософию), об истории (историософию), а то и о самом Боге (теософию), имеет куда больше шансов привлечь наше почтительное внимание, чем настоящий философ, тот, кто полагает своим идеалом даже не мудрость, а только совершенную любовь к мудрости. Конечно, более проницательные из современников Н.Н. Страхова понимали, насколько он ближе и к такой любви, и к самой мудрости, чем иные “наперстники Софии”. “Тайна Страхова вся - в мудрой жизни и мудрости созерцания” [2] - отмечал В.В. Розанов; но именно тайна, о которой Страхов нигде и никогда не говорил. Зато постоянно вёл речь о другом - о необходимости верно приступить к делу философского познания, чтобы не сбиться с пути уже на первом, по-своему самом важном шаге. Вот этот смысл его речей улавливали уже многие - и те, кого этот смысл не раздражал, не ставил лицом к лицу с их собственной философской несостоятельностью, охотно подчеркивали педагогическое (ещё точнее - пропедевтическое) значение философских трудов Страхова, называли их “философской хрестоматией для всякого русского читателя, желающего сделать первый шаг к самостоятельному мышлению” [3].
Несомненно, что и такая оценка стоит дорого, особенно сегодня, когда русскую философскую культуру надо отстраивать, по сути дела, заново. Тем не менее, эту оценку никак нельзя считать исчерпывающей значение Страхова как философа. Да, он “всего более заботился о выяснении основных понятий, о постановке вопросов” [4], но ведь именно с этого и начинается настоящая философия. К тому же, как замечает уже современный автор, Страхов пытался “разрешить вопросы, сама постановка которых в то время казалась непонятной” [5]. Он принадлежал к числу подлинных первопроходцев философской мысли в России - но чтобы понять нечто большее, оценить оригинальность Страхова как философа, необходимо ясно представлять, в чём эта мысль, собственно, заключается, необходимо отличать философию от всего другого.
В случае Н.Н. Страхова проблема своеобразия философии, её “особенной стати”, выступает на первый план, так как она напрямую связана с проблемой узнаваемости его собственных философских воззрений. Ведь даже автор только что приведенных (и глубоко верных) слов допускает досадный промах: приписывает Страхову некоторые работы его современника, преподавателя Харьковской духовной семинарии, тоже Н.Н. Страхова, и даже цитирует эти работы в подтверждение мыслей совсем о другом писателе2.
Не свидетельствует ли это о том, что Страхов как оригинальный мыслитель является величиной достаточно неопределенной? “Что такое Страхов? В чём его знамя?” вопрошали его оппоненты ещё в прошлом веке. А сегодня если и находят это “знамя”, то лишь в национально-патриотической публицистике Н.Н. Страхова, в его “почвенничестве”, но не в самой философии.
Осмелюсь, однако, утверждать что “проблема Страхова” - это, в первую очередь, наша собственная проблема: проблема нашей способности узнавать тот тип философской мысли, к которому принадлежит наследие Страхова. Ведь когда Страхову приписывается утверждение его “двойника”, согласно которому “философия основана на Священном Писании” и т.п., то это не просто путаница в именах и текстах, но именно непонимание особой философской установки, которая принципиально отличала Н.Н. Страхова от представителей так называемой “религиозной философии”. Отличала, конечно, не только Страхова, но и ряд других русских мыслителей, которых мы тоже не умеем узнавать и понимать - с роковыми последствиями не столько для прошлого русской философии (в очередной раз “переписанного”), сколько для её будущего, для возрождения русской философии в собственном смысле слова. Той философии, которая имеет мужество говорить от своего лица, а не от лица церкви или, чаще, некой неопределенной “религии”. А без этого голоса самой философии становится невозможным и настоящее единство веры и знания, единство, к которому стремились подлинные родоначальники и классики русской философии.
Жребий Николая Николаевича Страхова оказался в этом отношении особенно трудным - ибо он был, по сути дела, первым, кто повел борьбу за философию как таковую; отстаивал не философию “религиозную” и не философию “научную” (в смысле расцветавшего как раз в его время позитивизма), а просто философию, или, если угодно, “философскую философию”. Вот самый общий ответ на вопрос “что такое Страхов” как философ, в чём его философское “знамя”. И когда он поднял это знамя в самом начале 60-х годов ХIХ века, у него фактически не было единомышленников; в те годы даже лучшие русские мыслители (в том числе и старшие славянофилы) замечали, в первую очередь, “прикладное” значение философского знания - для защиты религии, для “синтеза наук”, для решения тех или иных социально-политических проблем, для этики и эстетики. Сразу уточним: творчество того же Страхова ясно говорит, что философия, осознавшая свое собственное достоинство, не ищущая опоры во внешнем
авторитете, вовсе не обязана замыкаться в круг своих специальных проблем - она способна быть самой открытой философией, вносить свет понимания в вопросы науки и искусства, религиозной и общественной жизни. Но при этом все те опыты прикладной философии, которыми так богато наследие Н.Н. Страхова, группируются вокруг основного, собственно философского, метафизического ядра.Я далек от мысли, что моя попытка охарактеризовать это ядро будет сколь-нибудь исчерпывающей. Возможно, что даже слово “ядро” здесь не вполне уместно; я попробую только очень бегло проследить определенную нить, которая соединяет его самые первые и самые последние работы, если угодно, извлечь эту нить из общей ткани его творчества. Название этой нити у Страхова - человеческая субъективность, то, что отличает человека от всех вещей, от всякого объективного, природного или, по другому выражению Страхова, предметного бытия. Замечу во избежание недоразумений: я никоим образом не буду “модернизировать” Страхова, буду по возможности пользоваться его собственными понятиями и выражениями, среди которых встречаются и такие, как “внутренняя форма” (при характеристике духа), или “временность” (при характеристике человеческого существования). И если философский язык Страхова покажется нам вполне современным, то это - его собственное качество, а не результат моей
интерпретации3.Проблема субъективности как сугубо философская проблема была ясно поставлена Страховым ещё в статье “Главная черта мышления”, написанной в 1866 году. Дата эта не случайна; в том же году появилась известная работа П.Д. Юркевича “Разум по учению Платона и опыт по учению Канта”, и статья Страхова написана в форме отклика на эту работу (кстати, единственного в тогдашней философской литературе). Страхов совершенно верно угадал, что работа Юркевича - это своеобразный манифест, и ответил не столько разбором взглядов этого мыслителя, сколько своеобразным контр-манифестом, написанным, однако, в чисто страховской
, лишенной полемического задора манере. Но сначала два слова о сути философского “манифеста” Юркевича, оказавшего немалое влияние на определенную линию в русской философии.Для мышления субъект есть ничто - таков основной тезис Юркевича; весь смысл мышления - в познании объектов, тех “общих и неизменных” структур, которые он называет, вслед за Платоном, “идеями”. Назад к объектам, прочь от топкого болота субъективности, от того, что верная себе античность понимала совершенно правильно: не просто как помеху познанию, но как некий
mhon, то есть не-сущее [7].Весьма характерно, что Страхов принимает этот вызов, брошенный философии Нового времени, на условиях, поставленных Юркевичем. Поясню, что я имею в виду. Страхов ведь мог ответить Юркевичу его собственными словами, тем признанием, которое делает сам Юркевич в сочинении, ставшим его последним философским трудом, за восемь лет до смерти. А именно, познание мира объективных идей ничего не даёт, по словам Юркевича, для познания “индивидуальных, живых и разумных существ”; “откровение, содержащееся в идеях о том, что есть”, оставляет нас “в полном неведении относительно того, кто есть”
[8]. Такое познание, мог бы сказать Страхов, есть что угодно, но только не философия, верная завету своего, кстати, тоже античного основателя: “познай самого себя”. И впоследствии Страхов говорил об этом неоднократно; но сейчас он решает задачу более сложную: а так ли прав Юркевич и там, где, казалось бы, весь смысл познания заключается именно в актах объективации, тех актах, которые, по словам Страхова, составляют “самую простую и обыкновенную деятельность мышления” [9]. И вот, при внимательном отношении к делу, выясняется, что и здесь субъективность мышления, тот факт, что мышление не просто “совершается”, но “само себя мыслит”, выступает в качестве онтологической основы познания, основы той свободы, которой обладает человеческое мышление по отношению к своим собственным законам. Три понятия - субъективности, истины и свободы - изначально вступают у Страхова в неразрывную связь, характерную именно для философии христианской эпохи. Присмотримся к этому ключевому моменту внимательнее.Страхов приводит типичный упрек Юркевича, адресованный Канту: последний, мол, не понял того, “что законы деятельности познающего субъекта так же не суть законы субъективные, как законы движения света и масс не суть светлые и массивные” [10]. Такое сопоставление, помещение на одну доску законов мышления и законов природы Страхов считает абсолютно неверным. Законы природы есть, действительно, нечто существенно иное, чем “подзаконная” им реальность; напротив, “законы мысли суть также мысли; тело, падающее но закону тяжести, не знает закона, которому повинуется; но мысль знает закон, по которому действует, и только потому ему и повинуется, что знает его” [11]. Это положение Страхов уточняет чуть ниже; но уже сейчас можно выделить главное. Именно потому, что на почве человеческой субъективности совпадает реальность мышления и его идеальная, “внутренняя форма”, или закон, становится возможным познание истины. За мышлением, подчеркивает Страхов, “нужно признать абсолютную способность исправлять самого себя, следовательно, не подчиняться ни одному из своих законов, не зная вполне, как он действует, где может дать истину и где ложь. Если этого нет, если есть закон, которому мышление подчинено слепо и беспрекословно, то мы не можем ручаться, чтобы когда-нибудь достигли посредством него истины” [12].
Уже из этих слов ясно, что речь у Страхова идет не о статике мысли, не о состоянии, но акте мышления, с присущей именно акту диалектикой действительности и возможности, то есть развитием. “В самом деле - пишет Страхов - если бы мышление не было в возможности абсолютно свободным, если бы оно было подчинено законам, данным ему извне, то для него было бы невозможно то, что составляет его действительную жизнь, то есть познание истины. Повинуясь внешним законам, оно было бы слепою силою, произведения которой не могли бы иметь притязания на значение истины” [13].
Отметим, что эти суждения Страхова было бы весьма интересно сопоставить с позднейшими взглядами Франца Брентано (с которым Страхов обнаруживает замечательную близость не только здесь, но и в ряде других моментов) или Гуссерля периода “Логических исследований” (с которым он формально совпадает в жестком разграничении законов мышления и законов природы, но радикально расходится в истолковании онтологического смысла этого разделения). Однако сейчас нас интересует только имманентное развитие философских идей Страхова, расширение и углубление его метафизической проблематики.
Итак, основа познания в том, что мышление, по словам Страхова, “может вполне владеть собою”, “отдать себе отчёт во всех своих формах и движениях”, может “свободно подчиняться своим собственным законам”. Но понять это основное качество мышления нельзя, игнорируя или “вынося за скобки” его субъективность, рассматривая мышление, а шире - человеческий дух как “вещь среди вещей”, что, кстати, и делал Юркевич, постоянно используя понятие “вещи” и “субъекта” как синонимы (в стиле средневековой схоластики). Страхов отмечает и другой важный момент: видимость правдоподобия, которую имеют все философские концепции, игнорирующие онтологию субъективности, обусловлена простым обстоятельством - рисуя ту или иную картину мира, будь то мир материальной природы или “мир идей”, эти концепции молчаливо предполагают зрителя данной картины. “Самая удивительная загадка - пишет Страхов - заключается не в том, что мир существует, а в том, что у него есть зритель”; “только в этой точке мы прикасаемся к истинной загадке бытия и мышления” [14].
Однако выражение “зритель мира” не должно вводить нас в заблуждение; дело не обстоит так, что настоящая жизнь происходит в мире объектов и вещей, а человек только созерцает эту жизнь. Напротив, настоящая жизнь совершается в самом человеке, в его свободном стремлении к истине, в его духе. Но для того, чтобы раскрыть это положение полнее, требовалось раскрыть и понятие духа, и понятие истины, выйдя за рамки чисто интеллектуализма, в каком-то смысле навязанного Страхову условиями спора с Юркевичем4. И Страхов совершает такой выход в работе “Об основных понятиях психологии и физиологии”, написанной уже в конце 70-х годов; и одновременно, что весьма примечательно, он как бы выходит из круга идей германского идеализма, возвращаясь к первоисточнику философии Нового времени, к Декарту и его принципу самодостоверности души.
В указанной работе (которая, на мой взгляд, остается лучшим введением в проблематику “cogito, ergo sum” на русском языке) Страхов говорит уже не о мышлении, а о переживании в широком смысле слова, о том, что называется душевным или “внутренним” миром. И вот, этот мир оказывается тем единственным, что выдерживает проверку систематическим сомнением - выдерживает именно в силу свой субъективности. Заметим, что Страхов не считает эту проверку каким-то искусственным приемом, впервые придуманным кабинетной философией. Корень картезианского сомнения, считает Страхов - в нашей реальной жизни, в живом и, если угодно, обыденном сознании, различающем, еще до всякой философии, два своих состояния: сна и бодрствования, или яви. Именно то в сознании, что не зависит от этого различия - мои переживания, взятые именно как переживания, как акты субъекта - и составляет содержание “моей души”, моего “внутреннего мира”. Напротив, онтологический статус “внешнего мира” всецело покоится на различии сна и яви; здесь важно не существование переживаний, но их объективное значение, которое не гарантируется их простым и несомненным существованием. Таков, по Страхову, основной парадокс теории сознания: в последнем абсолютно достоверно именно то, что абсолютно субъективно. Напротив, всё то, что служит выражением не субъекта, а чего-то другого (или понимается как такое выражение), оказывается тем самым проблематичным. Проблематичность - коренная черта “внешнего мира”; последний, пишет Страхов, есть “совокупность того, в существовании чего мы можем усомниться” [16]. Но это только одна сторона вопроса. Есть и другая, о которой Страхов говорит так: “Признав, что внешний мир может быть для нас сомнителен, мы тем самым приписали ему... все свойства настоящего объекта, настоящего предмета познания. Этот предмет может быть познаваем всеми, но его познание будет различно...может быть правильное и неправильное, полное или неполное...может, наконец, вовсе не существовать. Субъективный же мир, будучи неизбежно и вполне известен своему обладателю, для него не составляет предмета сомнения, но и ни для кого другого не составляет предмета познания” [17]. Иными словами, достоверность души есть именно само-достоверность, и эту “самостную” приставку нельзя отнять, не отняв самой достоверности. “Дух не имеет в себе ничего общедоступного, подлежащего такому же познанию, как объективный мир; всё в нём внутреннее, закрытое для чужого взгляда” [18].
Таким образом, Страхов с полной ясностью устанавливает диалектическую природу принципа, сформулированного Декартом. Парадоксальным образом именно предмет сомнения оказывается настоящим предметом познания; “это свойство, сомнительности, мы всегда приписываем настоящему познанию”, отмечает Страхов. Напротив, предмет очевидного, непосредственного знания оказывается недоступен традиционным приемам познания, именно потому, что это не предмет или “вещь” - но субъект, или существо. Он требует, подчеркивает Страхов, “каких-то обратных приемов и особенных усилий, необычайной постановки нашей мысли” [19]. И такими приемами ещё не овладела философия, хотя она и приблизилась к своей настоящей проблеме: проблеме познания субъекта, а не объекта, существа, а не вещества, того, кто есть, а не того, что есть. Страхов добавляет, что в свете такой проблемы, проблемы самопознания, новую постановку получает и познание так называемого “внешнего мира”, мира объектов. А именно, при ближайшем рассмотрении, этот мир открывается как “неизбежная среда для взаимного познания независимых друг от друга духовных существ” [20]. Проблема познания внешнего мира входит в философию именно в связи с проблемой познания другого существа, познания “чужой души”.
При этом Страхов ясно сознавал и то самостоятельное значение, которое имеет чисто научное познание мира - познание, по сути своей представляющее мир как механизм. Он писал: “Когда силою философского отвлечения мы отняли у природы всякую жизнь, когда мы научились не обращать внимания на красоту и выразительность её явлений, а стали смотреть на неё как на мёртвый механизм, мы открыли те законы, которым подчинён этот механизм, и продолжаем без конца открывать подробности его устройства” [21]. Но при всей значительности своих результатов (которые Страхов понимал вполне профессионально, в лучшем смысле этого слова), “наука не объемлет того, что для нас всего важнее, всего существеннее, не объемлет жизни” [22], не дает ответа на кардинальный вопрос: “как существует в мире духовное?” [23].
При внимательном взгляде на русскую философию ХIХ века, его последних десятилетий, становятся совершенно очевидны те нити, которые идут от затронутых выше работ Н.Н. Страхова к таким выдающимся произведениям, как “Основы веры и знания” П.А. Бакунина, “Наука о человеке” В.И. Несмелова, к творчеству П.Е. Астафьева, Л.М. Лопатина, Н.Г. Дебольского и других мыслителей. Конечно, эти нити возникали чаще не из личного влияния
Страхова, а из существа дела, из освоения русскими мыслителями настоящей области философской проблематики; хотя и личное влияние, несомненно, имело место. Так или иначе, в русской философии Страхов был, по-видимому, первым, кто опознал, на теоретико-философском уровне, ключевой для понятия истины момент её уникальности, момент, который нельзя подчинять моменту универсальности, или общезначимости: понял то, чего до конца жизни так и не понял В.С. Соловьёв, да и большинство его последователей. Истина не только конкретна; она всегда уникальна, открывает свою бытийственную достоверность в единичности человеческого существования - как самодостоверность, как истину самобытия, или саморазумения (если использовать выражения, характерные для Несмелова, Павла Бакунина и других). Но те же мыслители, и Страхов в первую очередь, ясно сказали и о другом: о бесплодности замыкания на этой уникальной истине, о естественности стремления перейти от субъективной достоверности истины к её объективной значимости. Другой вопрос, как верно осуществить это стремление.Прежде чем затронуть эту проблему, отмечу: Николай Страхов, этот “русский гегельянец”, питал величайшее отвращение к созиданию каких-либо всеохватных систем, к тому идеалистическому конструктивизму, который расцвел в “философию всеединства”. Хотя Страхов и определял философию, как искусство “ставить и развивать понятия”, он никогда не верил в “саморазвивающееся понятие” Гегеля или в “живые идеи” В.С. Соловьёва и его эпигонов. Понятия - инструменты познающего духа; идеи - выражения его “внутренней формы”; но в отрыве от духа, в отрыве от своей почвы в реальной душевной жизни и понятия, и идеи превращаются в фикции - интересно, что Страхов употреблял это слово, как позже Ф. Брентано при характеристике “значимостей”, ”смыслов“ и прочего, что якобы существует в отрыве от живого субъекта, или от той среды, которая необходима для взаимодействия живых субъектов. Именно поэтому Страхов, обладая глубоким и сильным теоретическим умом, подчеркнуто избегал философии “вообще”, придавал особое значение рассмотрению конкретных явлений и фактов. Из таких “частных” исследований составлена его замечательная книга “Мир как целое”, которую мы не умеем читать именно потому, что смутно понимаем призыв Страхова: “внимательно всматриваться” в себя и в окружающий мир. Призыв, который и составляет суть подлинной феноменологии, суть, выраженную Страховым в другом месте так: “для полного понимания - нужно открыть глаза, нужно отогнать от себя все, мешающее простому, прямому зрению” [24].
Прекрасным примером такого “прямого зрения”, в сочетании со способностью “ставить и развивать понятия”, выражающие подлинный характер сущего, является страховский анализ времени - категории, глубочайшее метафизическое значение которой Страхов осознал, опять-таки, одним из первых в русской философии.
К проблеме времени Страхов обратился ещё в книге “Мир как целое”, где одна из самых интересных глав посвящена вопросу о внутренней связи между сущностью смерти и сущностью жизни5. Всё живое, отмечает Страхов, имеет организацию во времени; собственно, именно организация во времени, а не только в пространстве, и является коренной чертою живого организма. То, что мы называем смертью, является поэтому формой самой жизни; наличие этой формы как раз и позволяет живому существу достигать зрелости, то есть совершенства, реализовать цель жизни, а не иметь её вне себя, только как недостижимый идеал. Таким образом, смерть является объективным выражением внутреннего духа, субъективности жизни; здесь связывается воедино и объективная логика жизни (био-логия), и её метафизика, и, добавим, её эстетика. “Как художественное произведение - пишет Страхов - не может тянуться без конца, но само собой обособляется и находит свои границы, так и жизнь организмов имеет пределы. В этом выражается их глубокая сущность, гармония и красота” [26].
Уже здесь мы находим указание на время как на связующее звено между субъективностью человеческого духа и его жизненными “объективациями”. Именно эта тема становится основной в последней работе Страхова, опубликованной после его смерти - “О времени, числе и пространстве”; читая её, понимаешь особенно остро, сколь многое мог ещё сказать Страхов как метафизик.
Сущность времени, подчеркивает Страхов, нельзя уловить путём каких-либо аналогий с пространством, потому что время есть непосредственное выражение существования; “существование во времени” - это, по сути дела, тавтология: “мы ничего не можем признать существующим вне времени”. Время раскрывает внутреннее многообразие модусов существования, в том числе и не-существование как момент самого существования, как прошлое, которое уже не существует, и как будущее, которое ещё не существует. Но подлинная суть существования выражается в настоящем; настоящее - это именно существование как таковое. А раз так, пишет Страхов, то “все сущее должно заключаться в настоящем”; настоящее потому и представляется в виде точки, что “время содержит в себе объединение всего существующего”. “Для Бога и ангелов, для бесконечно далеких и недоступных миров мгновение настоящего то же самое, как и для меня” [27]. Так определяет Страхов подлинный смысл одновременности - как единства всего сущего в настоящем, то есть подлинном существовании. И нетрудно догадаться, какое значение имеет этот тезис для понимания природы времени, да и для оценки тех квазинаучных фикций, которые построены на отождествлении времени с пространственной линией, состоящей из “эквивалентных точек”.
Впрочем, и характерная для науки объективация времени далеко не бесплодна, если понимать её правильно, как объективацию того качества времени (или существования), которое мы называем движением. Именно здесь выражается уже не абсолютность времени, связанная с настоящим, а его относительность, связанная с направлением “движения времени”: или к будущему, или к прошлому. Двойной взгляд на направление времени, отмечает Страхов, соответствует двойному взгляду человека на самого себя: как на субъект и как на объект. Объект вовлечен в движение времени, которое уносит его от прошлого к будущему, в конечном счете - к смерти; субъект остается неподвижным центром существования, и тогда время проходит через него, направляясь от будущего к прошлому [28].
На примере анализа времени Страхов показывает: ни одно явление не может быть понято на путях чистой объективации, характерной для научного знания, для рационализма в тесном смысле слова. Духовная основа мира, основа существенно субъективная (точнее, субъектная), раскрывается во всех явлениях, и хотя все они могут быть описаны так, словно этой основы нет, но их понимание возможно только в связи с нею, в её немеркнущем свете. “Есть старинное учение - писал Страхов - что та же дверь, которая ведёт в глубину нашего сердца, ведёт и в область божественных сил. Это прекрасное и истинное учение; на этом пути нужно искать Бога, а не в четвертом измерении пространства” [29].
В заключение повторю ещё раз: настоящее значение Страхова как философа можно вполне оценить только в верной ретроспективе русской философии. Теория сознания и самосознания, диалектика субъекта и объекта, переходящая в диалектику личности и вещи, онтология самобытия, проблема чужого сознания, или “другого”, метафизика духа как субстанции и творческой силы - эти и другие вопросы, поставленные Страховым, пусть только поставленные, но поставленные всегда глубоко и точно, нашли развитие в творчестве мыслителей, о которых я лишь упомянул, и которые остаются, к сожалению, “белым пятном” в историографии русской философии. А коль так, то, конечно, легко доказывать, что русская философия якобы и не ведала о ключевых проблемах человеческого существования, а занималась бесплодным конструированием вавилонской башни “всеединства”. Тогда легко культивировать и суеверный трепет перед современной западной мудростью, трепет, который, как отмечал Страхов, “отнимает от нас веру в собственное разумение”. И сегодня пора, наконец, стряхнуть этот трепет окончательно, и стать на твердую почву собственной мысли - почву, которая существует, как бы ни убеждали нас в противном.
Примечания.
- Н.Н. Страхов “Философские очсрки” изд. второе, Киев, 1906, с.391.
- В.В. Розанов “Литературные изгнанники” СПб., 1913, с. ХI.
- Н.Я. Грот “Памяти Н.Н. Страхова” - “Вопросы философии и психологии” кн.32, 1896, с.336.
- Э.Л. Радлов “Несколько замечаний о философии Н.Н. Страхова” СПб., 1900, с.5.
- Л.Р. Авдеева “Русские мыслители” М., 1992, с.110.
- Философские очерки” ук.изд.,с.354 и далее.
- П.Д. Юркевич ”Философские произведения” М.,1990, с. 478.
- там же, с.489.
- “Философские очерки”, с. 86
- П.Д. Юркевич, ук. изд., стр. 522.
- “Философские очерки”, с.86.
- там же, с.88.
- там же, с.87.
- там же. с.93.
- П.Д. Юркевич, ук.изд.,с.659.
- Н.Н. Страхов “Об основных понятиях психологии и физиологии” СПб., 1886, с.22; раздел “Об основных понятиях психологии “ был напечатан в 1878 г. в “Журнале Министерства народного просвещения” (май-июнь).
- там же, с.25.
- там же, с.26.
- там же, с.33.
- там же, с.28-29.
- там же, с.31.
- Н.Н. Страхов “О вечных истинах” СПб., 1887, с.54.
- там же, с.81.
- там же, с. ХХХVII.
- см. “К. Леонтьев, наш современник” СП6.,1993, с.441 и далее.
- Н.Н. Страхов “Мир как целое” изд. второе, СПб., 1892.с.33.
- “Философские очерки”,с.407.
- там же, с.409-410.
- “0 вечных истинах”,с.56.
В основу этого этюда положен доклад, прочитанный на совместном заседании Русского философского общества и кафедры русской философии Петербургского Университета 22 февраля 1996 года. Заметим, что сам Страхов, во избежание недоразумений, написал статью “О задачах истории философии” в форме отклика на работы, принадлежавшие его харьковскому “двойнику” [6]. Мы вообще очень плохо знаем язык русской философии. Недавно мне пришлось доказывать (с текстом в руках) одному недоверчивому слушателю, что термин “усмотрение” постоянно встречался у русских философов (например, у П.Е. Астафьева и Л.М. Лопатина) еще в прошлом веке, а не был “заимствован у Гуссерля”, как свято верил мой оппонент. Нельзя не отметить типичного для современной “историографии” комментария к изданию работ Юркевича, где некто Абрамов сообщает, что Страхов “не понял идей Юркевича” и использовал его статью как “повод поговорить о Гегеле”[15]. Если учесть, что Гегель в статье Страхова вскользь упоминается два раза, то легко догадаться, каким образом г. Абрамов и ему подобные “изучают” русскую философию. Более подробно взгляд Н.Н. Страхова на “значение смерти” изложен мною в работе “Живое и мертвое в русской философии” [25].