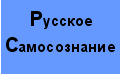Николай Калягин
Чтения о русской поэзии
Чтение второе
1
Готовность принять вызов Западного мира ознаменовалась в царствование Алексея Михайловича приглашением большого числа украинских священников, которые должны были завести у нас школьную науку не хуже, чем в Польше. Эти люди, номинально православные, но получившие образование или на Западе у иезуитов, или в православных школах и коллегиях Западной Руси, устроенных так же по иезуитскому образцу, - отличались высокой самооценкой; русская культура была для них каким-то “иксом”, неизвестной величиной, вычислять которую они ни в коем случае не собирались; просветительский зуд был в них весьма велик - они-то и принесли в Россию силлабическую поэзию.
В русских условиях силлабическая поэзия - это проза, нарубленная на строчки и снабженная по концам строчек побрякушечками рифм. В Польше, откуда эта поэтическая система пришла к нам, она имела значение как первая национальная стихотворная система, притом же - все слова в польском языке имеют ударение на предпоследнем слоге (кроме, конечно, односложных), и не так уж трудно добиться приемлемого звучания, добиться мерности - просто подбирая, например, равносложные слова. В Польшу силлабическая система стихосложения проникла из Франции, где все слова так же имеют фиксированное (на последнем слоге) ударение. Впрочем, ни в Польше, ни во Франции с этой системой не связаны какие-то выдающиеся поэтические достижения. Стоит ли удивляться тому, что для украинских просветителей силлабическая поэзия стала символом света, альфой и омегой учености и что учебники грамматики и арифметики, философии и медицины, вообще - вся учебная программа новой школы была ими переложена в силлабические вирши?
Суффиксально-флексивные сочетания, кочующие из одного слова в другое, признавались в ту пору полноценными рифмами, безусловно допускались и рифмы тавтологические - поэтому складывать силлабические вирши было очень легко: знай отсчитывай слоги (можно по пальцам) да не ленись выуживать из океана слов любую пару, способную совокупиться на общем суффиксе: царствоваше - бяше, бяше -содержаше, сказаше - бяше, бяше - искушаше, желаше - бяше, совершил есть - ублажен был есть, монах - иеромонах, бяше - скончаше... А если силлабические стихи, в силу своей чуждости основным законам русского языка, воспринимались труднее, чем проза, труднее даже заучивались, - что ж, тем хуже для учащихся.
Мы с вами вспоминали уже “Грамматику” Мелетия Смотрицкого (1619 г.), одна из статей этой книги носит название “О просодии стихотворной” - это серьёзная попытка создать метрическую систему, применимую для восточных славян. Но и Смотрицкому пришлось взять за образец латинский учебник, составленный иезуитом Альваром; к тому же созданная Смотрицким теория стихосложения искусственна, головоломна - до применения её на практике дело так и не дошло. Многочисленные переводы польских руководств по версификации заполонили книжный рынок в царствование Алексея Михайловича, силлабическая теория победила практически без борьбы.
Виднейший поэт этой эпохи - Симеон Полоцкий. Белорус, выученик Киево- Могилянской академии. Ловкий царедворец, воспитатель детей Алексея Михайловича: царевича Алексея, впоследствии и царевича Федора.
Первый профессиональный писатель в России, творивший за гонорар. Драматург. Чистый западник, для которого “неучёная” русская культура как бы и не существовала - настолько он презирал её.
И вот в русской литературе, где существовало уже вторую сотню лет и бережно сохранялось завещание Нила Сорского (“Молю вас, повергните тело мое в пустыни сей, да изъедят е зверие и птица, понеже согрешило есть ко Богу и недостойно есть погребения.” И дальше: “Мне потщание, елико по силе моей, что бых не сподоблен чести и славы века сего никоторые, яко же в житии сем, тако и по смерти.”), - в этой литературе царствует отныне широколицый такой просветитель, который знает себе цену, имеет гигиеническую привычку исписывать “по полу тетради” в день, “зело мелко и уписисто”, и за жемчужины поэзии и мудрости, типа:
Полезно выну бдети, не много же спати,
ибо силён сон делом злым пищы даяти, -
или:
Земли три части мокнут под водами,
четвёрта токмо суха под ногами,
Всех есть ходящих и разум имущих, и зверей сущих,-
или ещё:
В кремень железо тогда ударяет,
егда пол женский инока касает, -
за всё это прилежно взимает гонорары, имеет своих лошадей, кареты, прислугу. “Трудящийся достоин пропитания”... Имеет, главное, высокую самооценку, превосходное самочувствие - плохой знак для человека духовной жизни.
Бог с ней, с силлабической поэзией. Конечно, со временем появились в ней и более зрелые мастера - Феофан Прокопович, в первую очередь. Стефан Яворский оставил яркий след в поэзии новолатинской (“Элегия к библиотеке”), но писал и польские, и русские стихи - и в последних предстаёт весьма незаурядным, тонким стихотворцем:
Се вторый Ирод, исполнь смертна яда, -
Мазепа лютый убил мои чада.
Уподобися Россия Давиду,
Иже от сына терпяше обиду.
Но если в поэзии досиллабической главные жанры (дружеское послание, полемика по насущным и неотложным богословским вопросам) напрямую связаны с жизнью, и сами стихи обслуживают жизнь, то силлабическая поэзия - это всё-таки декорация, маскировочный чехол, фиговый листок, прикрывающий русскую неучёность, “русский стыд”. Это или поучение какому-то предполагаемому слабоумному читателю, или стихи на случай. Случаи-то бывают разные: смерть в царской семье, крестины, измена Мазепы, Полтавская виктория, Прутская катастрофа, - но все они одинаково хороши как повод. Повод взойти на кафедру и блеснуть учёностью, к месту упомянуть о Фаэтоне, о Трое, о Давиде и Авессаломе...
Школьная поэзия, искусственная.
Какое-то, действительно, нашествие иноплеменных, какие-то марсиане из романа Уэллса, ничем не связанные с народной жизнью, с историей - просветители, одним словом. Именно с них начинается грустная история русского западничества, и уж как они хлопочут, как стараются, выражаясь современным языком, “быть на уровне мировой науки” - и как безнадежно промахиваются уже в выборе цели: держат равнение на западную схоластическую науку, пораженную Декартом насмерть. Бедные, бедные просветители... Теперь, на ближайшие двести лет, определился их удел: гнаться за вчерашним западным просвещением, всё больше отчуждаясь от своего народа и ни на шаг не приближаясь к истинному, то есть завтрашнему, западному просвещению.
А тем временем, в прозе расцветает бытовая повесть, творит протопоп Аввакум - в поэзии же всё застилает этот ложный блеск, всё заполняют эти бумажные цветы. Приходится определять силлабическую поэзию как псевдоморфозу русской литературы.
Интересный факт: старообрядцы, ушедшие от просвещенства в скиты, в леса, дали на исходе петровской эпохи высшие, может быть, образцы русской силлабики.
В старообрядческом монастыре на реке Выге (это Олонецкая губерния) завелась при братьях Денисовых крупная книгописная мастерская, библиотека, свои школы - здесь был центр раскольничьего просвещения на русском Севере. А Андрей Денисов, из песни слова не выкинешь, тоже слушал в Киеве риторику и поэтику - может быть, и у самого Феофана Прокоповича. И вот в старообрядческом стихотворстве, с его темами конца света, наступления царства антихриста (тяжелые темы), появляются силлабические стихи.
Вот, например, изящное окончание “Рифм воспоминательных”, посвященных памяти как раз старшего из братьев Денисовых, Андрея Денисова:
Тем же молим Ти ся, Боже,
Покой душу в райском ложе
Сего верного Ти раба,
Воина церковна храбра,
Течения си скончаша
И веру зело соблюдаша.
Прочее, Царю Превечный,-
Соблюди и в живот вечный.
Правды венцом венчавая,
Павлов глагол скончавая,
Милость показуя над ним
В безконечны веки. Аминь.
Очевидно, к концу петровской эпохи силлабическая поэзия уже не выглядела тем, чем она была на самом деле: плодом латинского влияния на Русскую Церковь и русскую культуру, - а выглядела остатком доброй московской допетровской старины. Иначе бы старообрядцы её не приняли. Во всяком случае, силлабическая поэзия воцарилась всюду, её приняли все слои русского общества.
А её нежизненность, абсурдность и предопределили, наверное, ту легкость, с которой русское дворянство сразу же и попало в рабство к чуждому языку - французскому - к духу его и формам. От силлабических виршей немудрено и на край света сбежать, не то что в Париж.
Поэт, произведениями которого открываются любые антологии русской поэзии - князь Антиох Кантемир.
Константин Сергеевич Аксаков, чьи мнения всегда заслуживают внимания и уважения, отозвался о Кантемире достаточно резко: “Кантемир был острый человек - и больше ничего”, - то есть, фактически, отказал ему в звании поэта. Но мы понимаем, что Константин Аксаков не был знаком с князем Антиохом Дмитриевичем лично (более ста лет их разделяют), и его отзыв об остроте Кантемира - это признание остроты кантемировских сатир.
Как стихотворец Кантемир целиком принадлежит переходной эпохе. В чем же его отличие от Симеона Полоцкого? Та же силлабика, то же просвещенство. Разве что антиклерикализм прибавился. (Кстати сказать, отец Петра Могилы, молдавский господарь, был свергнут со своего трона предком Антиоха Кантемира. Вследствие чего Пётр Могила очутился в Киеве и основал там Академию, в которой выучился Симеон Полоцкий. Такая вот молдавская тема неожиданно прозвучала в истории русской поэзии.)
Но когда Жуковский в своей известной статье сравнивает Кантемира с Ювеналом - в этом не чувствуется натяжки. Это всерьёз. Кантемир, прежде всего, очень крупная человеческая личность. И хотя он проблуждал всю жизнь в дебрях силлабической теории, но эти заросли не в состоянии скрыть целиком фигуру Кантемира: на поверхности остаётся голова.
“За музыкою только дело”, - учит П. Верлен в переводе Б. Пастернака. Музыки в стихах Кантемира почти нет, читать их трудно, но разбирать, изучать - наслаждение. Ведь не в одной только музыке дело! “Удивляешься и радуешься: рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с человеком”, - к творчеству Кантемира вполне приложимы эти замечательные слова Паскаля. “Автор” ведь принадлежит “литературе” -стремится ли он отвоевать в ней местечко для себя, для своего авторства, враждует ли с нею, - в обоих этих случаях он ни о чём, кроме литературы, думать не может. А Кантемир менее всего озабочен чужими словами, чужими ритмами, чужим вдохновеньем - у него свои мысли, своя боль.
Кантемир в стихах очень умён и при этом - открыт, простодушен, до странности иногда откровенен. Редкое, чарующее сочетание! “Мой чистосердечный Кантемир”, так называл его Батюшков.
Язык Кантемира прост, близок к живой разговорной речи. В этом отношении Кантемир как бы продолжает начатое Наседкой, Шаховским и полностью игнорирует опыт Симеона Полоцкого. Но говорить об участии Кантемира в т.н. “литературном процессе”, о влиянии его стихов на развитие русской поэзии не приходится: он писал в стол, и первое издание его сатир появилось в то время, когда уже весь ученый и литературный мир России признал открытия, сделанные Тредиаковским и Ломоносовым. И успеха (тем более - большого успеха, коммерческого) сочинения Кантемира никогда не имели.
Однако слова, сказанные им о своих стихах: “Умным понравится голой правды сила”, - нередко находили себе подтверждение в прошлом, да и в настоящем иногда оправдываются.
Запомните сравнение Жуковского; внимательно прочтите хотя бы одну Пятую сатиру - я уверен, что вас это заденет всерьёз.
А пока послушайте небольшой отрывок (из Первой сатиры, написанной Кантемиром на двадцатом году жизни), который особенно уместно прозвучит здесь, на заседании Русского Философского Общества:
Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
Бесстрашно того жильё, хоть и тяжко мнится,
Кто в тихом своём углу молчалив таится;
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, в себе рассуждая
Пользу наук....
Первые годы после смерти Петра I, вообще говоря, ужасны. Извeржение вулкана закончилось, огонь потух, взгляд созерцает только следы разрушений. Пованивает гарью. Литература в обмороке. Русский язык, ещё недавно столь мощный и гибкий у Аввакума, представляет собой уродливое и жалкое зрелище : на треть это варваризмы, на треть - площадная и рыночная лексика, на треть - церковно-славянские слова, которые в подобной компании выглядят особенно дико.
В это-то время, в Париже, обучавшийся там наукам юноша Тредиаковский возвращается мыслями к оставленной на время России, тоскует по ней, смущается духом, берет перо, чернильницу, начинает:
Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны:
Ибо все днесь мне её доброты
Мыслить умом есть много охоты.
Как сказал в нашем веке поэт Ходасевич:
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далёким сёстрам подала.
Ходасевич имел в виду снеговые холмы Фрейберга, на которые русская камена взошла в 1739 году по случаю написания Ломоносовым оды на взятие Хотина, - у нас есть основание предполагать, что первое её явление было одиннадцатью годами раньше, что взошла она на парижские снеговые холмы и оттуда подала дивный голос латинским сёстрам, сказав:
Виват Россия! виват драгая!
Виват надежда! Виват благая!
......
0 благородстве твоём высоком
Кто бы не ведал в свете широком?
.....
Твои все люди суть православны
И храбростию повсюду славны;
Чада достойны таковой мати,
Везде готовы за тебя стати.
Чем ты, Россия, неизобильна?
Где ты, Россия, не была сильна?
.....
Сто мне языков надобно б было
Прославить всё то, что в тебе мило!
Среди любителей русской поэзии репутация Тредиаковского никогда не была высока, все помнят “Стоит древесна к стене примкнута...”, многие читали Лажечникова, - и основания для такого отношения имеются. Тредиаковский, действительно, не обладал крупным поэтическим талантом, притом это человек незнатный, попавший в то жестокое время в высший круг и не всегда умевший сохранить своё достоинство. Приёма такого, знаете, жеста - у него вообще нет. Парвеню, разночинец. К тому же еще и педант законченный.
Письма Тредиаковского читать тяжело. То он упоён свыше меры успехом своей (то есть, конечно, Тальмановской) “Езды в остров любви” и неизящно так пыжится, то унижается - и тоже сверх меры, тоже некартинно.
Впрочем, это всё внешние какие-то особенности и черты характера, которые могли бы огорчать жену Василия Кирилловича и до которых посторонним людям, в сущности, не должно быть дела. А личность Тредиаковского как теоретика литературы, как ученого - личность выдающаяся, достойная вечной памяти и уважения.
1735 год - год издания его трактата “Новый и краткий способ к сложению российских стихов”.
Тредиаковский почувствовал, что некоторые русские силлабические вирши не так плохи, как положено им быть, - и именно из-за того. что русские сочинители то и дело отступают невольно от польских правил, увлекаемые внутренней логикой родного языка.
И вот он совершает свой подвиг: провозглашает и обосновывает тонической принцип стихосложения, вводит понятие “стопы” (и предлагает мерить стих стопами, а не слогами), предлагает вполне удовлетворительные образцы новой поэзии.
В январе 1736 года Ломоносов на последние гроши покупает эту книгу и бережно, ревниво (по счастливому выражению А. А. Морозова) увозит ее с собой заграницу.
Вот слова из трактата “Новый и краткий способ к сложению российских стихов”, достойные особенного внимания и сочувствия:
“Всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства, нашему стиху приличного и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела.”
(Лишний раз подтверждается мысль К. Аксакова: “Источник внутренней силы и жизни и, наконец, мысль всей страны пребывают в простом народе”. Мы можем что-то сделать на поприще личной деятельности, личного сознания только тогда, когда между нами и народом есть “непрерывная живая связь и взаимное понимание”.)
Но гением Тредиаковский не был. Предмет, на котором он споткнулся, это тот именно предмет, о который всегда претыкаются обыкновенные люди. Этот предмет - мода.
В моде был одиннадцатисложный стих, и, естественно, Василий Кириллович рассчитал свою систем под одиннадцатисложник. И вышло, что, сделав ударение на последнем слоге перед цезурой (на седьмом), правильного чередования стоп можно добиться только применяя хорей. И стало быть, русское стихосложение должно быть обязательно двухстопным и почти исключительно хореическим.
Двигаясь в обратном направлении, получим: русское стихосложение должно быть хореическим для того, чтобы получался одиннадцатисложник. А для чего обязательно одиннадцатисложник? Такие вопросы человеку обыкновенному в голову не приходят.
По сути дела, Тредиаковский, как некий трудолюбивый крот, прорыл совершенно непроницаемую плотину - первым, от начала и до конца - и опочил на лаврах, оставив вполне бессмысленную перегородку, которую богатырь Ломоносов вышиб шутя, одним ударом ноги.
И поэзия хлынула.
“Письмо о правилах российского стихотворства”, написанное Ломоносовым в том же 1739 году, что и ода на взятие Хотина, воспринимается сегодня как бескровная, полная, окончательная победа молодого гения над педантом.
Ломоносов беспощаден к польскому, киево-могилянскому наследству: силлабика осточертела ему уже в академии, и он, указав на нищету польской версификации, которая, в силу особенностей языка может опираться на женскую только рифму, спрашивает: и зачем нам-то “самовольно нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставить”?
В противовес хорею Ломоносов выдвигает ямб. И, в увлечении, приписывает этой стопе - самой по себе - благородство, высокость, величие: за хореем же навеки закрепляются нежность, сладость - хорей признается годным только для элегии.
В 1743 году происходит интересное состязание поэтов: Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков издают отдельной книжечкой свои переводы 143-го псалма, без подписей, - читателю предоставляпась возможность, не зная имени мастера, оценить само мастерство.
В предисловии. Тредиаковский пишет, ставя последнюю точку и споре: “Никоторая из стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что всё сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в своё сочинение.”
Трудолюбивый крот возвратился к входу, пробитому счастливым соперником, отделал его, украсил, прибрал мусор - “сдал под ключ”.
Значение Ломоносова огромно в русской литературе. Его итоговая филологическая работа “Предисловие о пользе книг церковных в российском языке”, содержащая теорию трёх стилей, - и есть ответ на давний многих мучавший вопрос: кто же всё-таки создал русский литературный язык, Карамзин с Жуковским или Пушкин? - Создал его, конечно же, Ломоносов. Мы помним каково было состояние литературного языка в конце петровской эпохи - именно Ломоносов расчистил эти конюшни. Остальные уже занимались благоустройством.
Но мы с вами говорим сегодня о поэзии. В чем же тут исключительная заслуга Ломоносова?
Аксаков, опять Константин Аксаков пишет: “Немного таких стихов, в которых каждое слово требует внимания и подаёт раздельно свой голос”. Такое слово “не только извне, по смыслу своему становится в стих, но и как слово прекрасно в нём является”.
Это именно то, что в эстетике классицизма называется изящным языком. Создание изящного языка, языка русской классической поэзии и есть заслуга Ломоносова. Вспомните библейскую его “Оду...”:
Кто море удержал брегами
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами
Стремиться дале не велел, -
между этими стихами и ямбами “Онегина”, “Полтавы”, “Медного всадника” нет принципиальной разницы, они написаны на одном языке.
Константин Аксаков заканчивает: “Язык, становясь изящным, утверждает свои формы; они не распадаются, не уносятся потоком жизни, они повторяются”. Не бог весть что, с точки зрения вечности, но для Земли - довольно много. На эту тему Ахматова изящно рефлексировала:
Всего прочнее на земле - печаль
И долговечней - царственное слово.
Становясь изящным, язык делает долговечными состояния души, в которых находился во время своей работы писатель, владеющий этим языком. Мельчайшие оттенки мысли и чувства, иногда даже физические ощущения - всё это может быть закреплено на бумаге в счастливую минуту. И через сотни лет тонко чувствующий читатель сможет входить в те же мысли и чувства, переживать те же ощущения.
Не следует только думать, что внутренний мир русских людей, живших до Ломоносова, был беднее нашего с вами внутреннего мира. В разные века нашей истории творческий гений нации проявлял себя по-разному. Древняя Русь не знала Пушкина и Тютчева, но ведь и мы, зная Дионисия, можем только восхищаться чистой, изысканной гармонией его живописи - повторить за Дионисием мы не можем.
Вообще, плох ли, хорош ли внутренний мир русского человека ХIХ в. - это тема отдельная. Но он сохраняется, он закреплён особым образом в памятниках классической русской поэзии, язык которой создан Ломоносовым, и будет сохраняться ещё долго.
А был ли поэтом сам Ломоносов?
Разумеется, нет. Ломоносов больше чем поэт, или, может быть, меньше - поэзия не была главным делом в его жизни. Великолепно презрение, с которым он говорит о Сумарокове - об этом человеке, который ни о чём, кроме как о бедном своём рифмачестве, не думает!
“Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”.
Сердце Ломоносова принадлежало и принадлежит России, не поэзии.
В заключение сегодняшнего чтения, скажем о Сумарокове несколько слов. Сейчас у всех Мандельштам на уме и на языке, так что, вспоминая о Сумарокове, говорят:
...жалкий Сумароков
пролепетал заученную роль, -
хотя абсолютно ничего жалкого в Сумарокове нет. Это был сильный боец в жизни и в литературе.
Человек хорошей фамилии, получивший хорошее образование, рано принятый в лучшем обществе, “законодатель мод, специалист бесед”, директор Императорского театра, да просто счастливый человек, вовремя родившийся: год смерти Людовика ХIV стал годом его рождения, Сумароков и Век Просвещения - ровесники.
На его глазах менялся мир. Вольтер выступил со своей проповедью, и его книги распространялись по Великой Русской равнине, не встречая препятствий в естественном ландшафте. В атмосфере интеллектуального брожения и суматохи раздражительный, пылкий, самолюбивый Сумароков сумел очень долго продержаться на первых ролях:
Он был Вольтеру друг, честь Росския страны...
Ломоносов был великий человек. Тредиаковский - учёный человек и великий труженик. Сумароков, враждовавший с ними обоими, был блестящий человек, остроумный, ярко талантливый, и, бесспорно, первый писатель своего времени. Учёность Ломоносова и Тредиаковского поднимала их высоко над общим кругом образованных людей: человек общества мог, при желании, многому у них научиться, мог и презирать их за неотёсанность, высмеивать их “надутость” и “педантизм” - он только не мог с ними запросто беседовать. А Сумароков сам - человек общества, и его творчество “следило за модой”, отзывалось на малейшие изменения понятий, настроений, вкусов, находило для последних (а нередко и создавало заново) эквиваленты в литературном языке. Именно этим объясняются известные слова Пушкина: “Сумароков прекрасно знал по-русски (лучше, нежели Ломоносов)”.
В настоящее время о Сумарокове можно говорить всё, что угодно (“жалкий Сумароков пролепетал”), задевать его живого - было опасно. Живой Сумароков резался, как бритва.
Приведу характерный образчик сумароковской колкости. Академия (чьи интересы защищал в этом деле Ломоносов) предъявила ему денежный счёт. Сумароков вынужден вступить в переписку с Государственной Штатс-Конторой. И вот какой выходкой по адресу Ломоносова заканчивается его официальное “доношение”: “А что он не в полном разуме, в том я свидетельствуюсь сочинённою им Риторикою и Грамматикою”.
Сумароков пережил свою славу. Любой церковный человек объяснит вам, что это добрый знак. Бог, значит, не отвернулся от Сумарокова, не оставил его упиваться мишурными успехами - до конца, но дал ему возможность очувствоваться, вернуться к себе, приготовиться к смерти. Не нам судить о том, как распорядился этим временем Александр Петрович.
На посторонний взгляд, он быстро опускался. Женился вторым браком на своей крепостной. Эта вторая жена умерла - осталась ее племянница. Сумароков женится на племяннице: “Нельзя, чтоб пропала пенсия”. Дерзит самой Екатерине, и та по-женски так сердится, но, в общем, терпит - по старой дружбе. К месту и не к месту хвастается письмом Вольтера, в котором литературные труды Сумарокова получают самую высокую оценку, - правда Вольтер тут же и оговаривается, в свойственной ему манере, что по-русски не знает ни слова, - и Сумароков этой оговорки не замечает... Родная мать подаёт на него официальную жалобу, императрица раздражённо ворчит: “Сумароков без ума есть и будет”; друг-приятель Демидов начинает оттягивать у него дом - последнее достояние, если не считать будущей пенсии, которую скоро получит вдова действительного статского советника Сумарокова, - а пока что действительный статский советник выходит из своего дома в домашнем платье и идёт, не спеша через площадь в трактир выпить водки... Продажу дома с аукциона Сумароков пережил только двумя днями.
Всё эго трогательно, пронзительно, натурально. Перед нами всё тот же “писатель- боец, входивший в борьбу с жизнью на площади, на открытом поле” (слова Вяземского о Сумарокове), но боец состарившийся и жизнью, наконец, побеждённый.
Ну а стихи? Стихи Сумарокова не кажутся нам сегодня особенно натуральными, не трогают нас и не пронзают. И мы готовы согласиться с Плетнёвым, который считал, что Сумароков был всего лишь “неутомимый говорун и пересказчик” в поэзии.
Можно и не читать стихов Сумарокова, но заслуги его перед русской поэзией помнить необходимо. Дворянин, сын петровского генерала, стал профессиональным писателем - такое случилось впервые. И именно Сумароков приучил образованное общество уважать звание литератора.
“Я на войне не бывал и, может быть, и не буду, и столько же тружуся и в мирное время... Мои упражнения ни со придворными, ни со штатскими ни малейшего сходства не имеют, а труды мои ничьих не меньше, и некоторую пользу приносят... люди во вкус приводятся... Мне Россия за мои трагедии должна благодарить” - эти декларации Сумарокова взяты из его писем к Шувалову, Потёмкину, Екатерине. И это не оппозиция. Именно таков дух времени, дух екатерининских указов. Царь и Поэт действуют заодно, общество “во вкус приводится”.
Совместными усилиями устанавливается чрезвычайно высокий общественный статус поэзии. Расцвет её становится делом недалёкого будущего.
Примечание: Продолжение. Начало см. “РС” № 2 (1995).