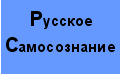Николай Ильин
Трагедия русской философии.
Введение.
“Великое дело – уметь в философских явлениях различных эпох, стран и народов различать нормальные видоизменения, сохраняющие тип философской мысли, от тех, в которых этот тип нарушается или извращается”
[1]. Николай Николаевич Страхов (1828-1896), один из подлинных классиков русской философии, написал эти слова в 1893 году – на исходе собственной жизни и, как показала история, на исходе “золотого века” русской культуры, немаловажным (если не ключевым) элементом которой была и национальная философия. Вместе с ХХ веком наступил упадок русской культуры, распад русской жизни в целом – и, среди прочего, разложение духовного типа русской философии. То пророчество, которое А.С. Хомяков (1804–1860) обратил когда-то к далёкому “острову”:И сынов твоих покинет
мысли ясной благодать
–
исполнилось, нежданно-негаданно, в культурных центрах русской жизни, в Москве и Петербурге, где расцвёл так называемый “религиозно-философский ренессанс”, оказавшийся на деле интеллектуальным пустоцветом, хуже того – нравственной изменой идеалам русской духовности, падением в пропасть гностической лжемудрости. Но в духовной жизни народа, как и отдельного человека, “нравственное возрождение всегда возможно”, если вспомнить слова другого классика русской философии, Льва Михайловича Лопатина (1855 – 1920) [2]. Для этого необходимо, однако, извлечь урок из судьбы русской философии, из всего опыта русской мысли, как положительного, связанного с её подлинным расцветом, с её настоящими вершинами, так и отрицательного, испытанного во время блужданий в “перевёрнутом мире”, где низины мысли выдавали себя за её “вершины”. Время для такого извлечения уроков, наконец, настало. И сразу замечу: приоритетным и решающим является при этом именно осмысление положительного опыта; без такого осмысления голая критика отрицательного опыта не может привести к его преодолению, ибо силу преодоления даёт только творческая причастность к положительным принципам, началам и ценностям. Вот то понимание, из которого вытекают три более конкретные задачи данной книги.Её первая и в определённом смысле самая существенная задача: опознать и как можно глубже понять тот тип философской мысли, который выразили творцы русской национальной философии, от И.В. Киреевского (1806
-1856) до В.И. Несмелова (1863- 1937), если назвать сейчас только двух мыслителей, созидавших русскую философию, один из которых стоял у её рассвета, а другой – у заката. Именно этот тип – русский тип христианской философии – составляет самое ядро нашего философского наследия, определяет норму, на которую необходимо ориентироваться, задаёт эталон, без которого любой разговор о “значимости” того или иного явления в русской мысли лишается ясного смысла. Здесь, при решении этой первой, самой неотложной задачи, в центре нашего внимания будет стоять по преимуществу русская философия второй половины ХIХ века, особенно двух его последних десятилетий, когда были созданы самые глубокие, поражающие своей “вечной современностью” произведения отечественной философии – такие, как “Основы веры и знания” П.А. Бакунина (1820-1900), “Положительные задачи философии” Л.М. Лопатина, “Наука о человеке” В.И. Несмелова. На том же континенте русской философии (континенте, который сегодня приходится открывать по существу заново) мы находим творчество Н.Н. Страхова, П.Е. Астафьева (1846-1893), В.А. Снегирёва (1842-1889), Б.Н. Чичерина (1828-1904), А.А. Козлова (1831-1901), Н.Г. Дебольского (1842-1918) и других мыслителей, благодаря которым русский народ в сравнительно короткое время стал народом с собственной метафизикой. И эту собственность мы должны не просто увидеть сквозь облако пыли, именуемое “историографией” русской философии, но и действительно понять как нашу собственность.Только в связи с этой основной, положительной задачей, с учетом её приоритета, мы будем решать и задачу “отрицательную”, а именно – попытаемся рассмотреть те искажения и прямые извращения духовного типа русской философии, которые характерны, главным образом, для упомянутого “ренессанса” начала ХХ века. Конечно, ещё в рамках русской философии ХIХ века нам придется коснуться “свободной теософии” В.С. Соловьёва (1853-1900), эклектического построения, которое на деле отличается от вульгарной “теософии” в стиле Е.П. Блаватской и прочих только использованием более тонких интеллектуальных приёмов, только более респектабельной “религиозно-философской” личиной. Наша обязанность – разглядеть то, что за этой личиной скрывалось, трезво оценить процесс деградации, начатый в русской теоретической философии именно с легкой руки Владимира Соловьёва и продолженный в эпоху пресловутого “ренессанса” как его сознательными эпигонами, так и теми, кем просто владел тот же дух – чуждый духу русской национальной философии. Но сразу подчеркну: автор этой книги не намерен смаковать те явления, в которых выразилась деградация, духовная болезнь русской философии. И не только потому, что изощряться в насмешках над вздором, которым наполнены “софиология” и аналогичные ей “религиозно-философские хохмы” – занятие нехитрое, требующее скорее навыков фельетониста (типа Д. Галковского), чем философа. Куда важнее другое: отметив основные симптомы болезни, поняв её этиологию, сформулировав её чёткий диагноз – решить и здесь положительную задачу. А именно, мы попытаемся выделить то немногое, что и в эту эпоху хоть как-то сохраняло верность духовному типу русской философии (творчество С.А. Аскольдова; в значительно меньшей мере – Н.О. Лосского и Н.А. Бердяева) или находило к нему свой путь, обычно извилистый и окольный (здесь весьма интересна, в частности, творческая судьба И.А. Ильина). Узнавая связь “ренессанса” с подлинной русской философией – какой бы несовершенной, порой безотчетной эта связь ни была – мы обретаем уверенность в том, что традиция нашей национальной философии (суть которой составляет обращение к “внутреннему человеку”, к духовной личности) на деле никогда не обрывалась; начинаем видеть, что именно этой традицией жили даже и те, кто её не понимал или прямо отрицал, поклоняясь идолам “всеединства”, “богочеловечества” и т.д. Идолам можно отдать жизнь, но от них нельзя её получить. Вот почему и история мыслителей, изменивших своему назначению, история напрасно растраченных талантов – даже и такая история открывает и утверждает первоисточник русского духа в философии.
Наконец, третья задача, которую ставил перед собою автор, заключалась в попытке выразить своё понимание будущего русской философии. Я умышленно говорю о будущем как таковом, а не о “вариантах будущего”. Если философия в современной России продолжит тот “путь”, по которому пошли когда-то представители “ренессанса”, вольные и невольные продолжатели чаадаевско-соловьёвской линии на “самоотречение”, то у нас просто не будет живой национальной философии. Живую русскую философию подменит тогда истолкование давно написанных “текстов” – причем по правилам, которые не этими текстами установлены; ведь в русской “религиозной философии”, по утверждению одного её почитателя, вроде бы весьма горячего (С.С. Хоружего), есть только “испорченная феноменология”, а настоящую – надо брать непосредственно у Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и прочих кумиров ХХ века; кумиров, которые на деле являются божками жалкого времени, как метко назвал этот век один западный исследователь. Подобный “путь” русской философии – когда предлагают “вернуться к тому, на чём всё оборвалось”
[3], то есть к философскому стилю “серебряного века”, периода замутнения и засорения чистых источников веры и знания – подобный путь не подходит тем, кто верит в творческий потенциал русской философии, верной своему духовному типу. В каких основных направлениях может (и следовательно, должен) раскрыться этот потенциал, какие ключевые проблемы ещё предстоит решать мыслящим русским людям у себя на Родине, на своей духовной почве, сверяя свой путь по идеалу национальной философии, оценивая своё творчество по эталону этой философии, по творчеству её классиков – мы будем подробно говорить в заключительных главах этой книги, а, по сути, и на всём её протяжении.Но какой же смысл, в связи с указанными задачами, имеет её заглавие – “Трагедия русской философии”? Если название книги не является лишь броской “шапкой”, но выражает нечто существенное, стержневое для всего хода авторской мысли, то и раскрывает смысл названия именно книга в целом. Здесь же, в вводных замечаниях, уместно сказать следующее
. Мне хотелось бы, прежде всего, чтобы читатель пережил и осмыслил трагедию русской философии как нашу трагедию – трагедию отрыва от нашей метафизической почвы при сохранении в нас метафизических стремлений и потребностей. За русскую философию мы доверчиво принимаем её “двойника”, который может только обмануть наши надежды. Сегодня, благодаря усилиям т.н. “историографии” русской мысли, мы имеем не подлинную историю русской философии, а лишь её ущербный, искажённый, если не сказать – лживый квазиобраз. Конечно, в такого рода трагедии есть изрядный элемент трагикомедии, причём комическое исходит именно от нашего некритического восприятия упомянутой “историографии” (о которой пойдёт речь уже в следующем разделе). Но так или иначе, поскольку русская философия действительно существует не в книгах и не в безличном “мире идей”, а только в сознании мыслящего русского человека, связанного с традицией, продолжающего традицию – то отсутствие адекватного образа этой традиции в нас самих – это и трагедия русской философии как таковой.Однако понятие трагедии имеет, конечно, и более фундаментальный смысл, который не исчерпывается моментом иллюзии, искажения истины. Более глубокий принцип трагедии – это принцип духовной борьбы. Но и такая борьба имеет два различных по глубине и значению уровня, может выражать два существенно разных конфликта: внешний и внутренний. Внешний конфликт, скорее драматический, чем собственно трагический – это конфликт между настоящими творцами русской философии и её разрушителями, между героями и антигероями. На это противостояние нельзя закрывать глаза; разобравшись в нём, мы начнём узнавать подлинно русское и подлинно философское в русской философии, отличать нашу национальную философию от её двойника или “обезьяны”. Ведь, как сказал ещё Аристотель, “главное, чем трагедия увлекает душу – переломы и узнавания”
[4]. Когда-то в русской философии произошёл “перелом” от подлинного к неподлинному; сегодня настало время добиться обратного перелома, а для этого необходимо, в первую очередь, узнавание. Вот почему в данной книге противостояние подлинного и неподлинного в истории русской философии будет рассмотрено достаточно тщательно – как конфликт между национально-русской философией (внутренне связанной с православным богословием, хотя и не тождественной ему) и так называемой “религиозной философией”, где были утрачены и ясность философских принципов, и чистота православных догматов.Ещё раз подчеркну, что этот уровень духовной борьбы – где реальные антагонисты достаточно четко различимы и персонифицированы – очень важен. Именно его опознание и осмысление позволит нам установить духовный тип русской философии в его чистоте, увидеть его содержание, его основной характер, его жизненно важное значение в качестве ясного идеала. Ибо идеал не может не быть ясным, внутренне очевидным, исключающим пресловутое “тождество противоположностей”, этот синоним двусмыслицы. Поэтому уже сейчас уместно заметить (хотя подробно об этом мы будем говорить ниже), что русской национальной философии абсолютно чужд так называемый “антиномизм”, характерный для её двойника (а на деле – духовного противника) – в том числе и “антиномизм” в понимании трагичности человеческого существования. Если речь идёт о трагедии как столкновении двух резко противоположных, враждебных начал, то “антиномист” превращает столкновение в “свободное витание над противоречием или противоположностью”
[5] (по откровенному заявлению С.Л. Франка (1877–1950), который сам выделяет это восхитительное словечко – “витание”, ключевое для психологии “корифеев ренессанса”) – то есть означает, по сути дела, даже не отказ от борьбы, а предательство по отношению к истине. Ведь настоящая противоположность истины, то есть ложь, стремится победить не в качестве лжи, а именно представив себя “частью истины”, её необходимым “элементом”. Там же, где центр тяжести борьбы лежит внутри человека, “антиномизм” фактически утверждает равноправие высокого и низкого, подлинного и неподлинного, собственно и несобственно человеческого в человеке. И это снова – измена духу трагедии и слепота к этому духу. Человек – не ходячий оксюморон. И в себе самом он – как трагический герой – утверждает только подлинно человеческое (или, что то же самое, – богоподобное) и отвергает всё недочеловеческое, недостойное быть в составе человека как образа Божия. “Антиномист” же, принимая противоречие как данность и неизбежность, проявляет, по сути дела, духовную трусость, отрицает ясный завет Спасителя: “да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого” (Мф.5:37) – принимает именно сторону “лукавого”.Добавим, что все эти “религиозно-философские” оксюмороны – “просвещённое неведение”, “тварный творец”, “сущее ничто”, “блаженное страдание” и т.д. и т.п. – пленительны лишь для слабого ума, лишь для него выражают суть метафизики, а на деле, в лучшем случае, скользят по её поверхности, да и по поверхности трагедии. Проникают в неё суждения совсем иного рода – такие, как слова Павла Александровича Бакунина: “для человека нет и не может быть внешней судьбы, которая бы не совпадала с его назначением”
[6]. Говоря о философии как деле человека, как акте его самопознания (что верно понял ещё Сократ), и мы должны понять, что в трагической судьбе русской философии раскрывается её высокое назначение – раскрывается во всём, что здесь совершалось. Раскрывается, однако, не просто разнообразно, но по существу различно, в тех уроках верности и неверности духовному типу русской философии, которые даёт творчество каждого русского мыслителя – в уроках его верности и неверности самому себе, своей самобытности, во всем глубоком смысле этого понятия (который нам ещё предстоит выяснить). Но сразу скажу – уроки верности важнее уроков неверности. Только исходя из верности, увидев её настоящую суть, мы сможем понять (и по-своему оправдать) даже тех, кому выпал горький жребий (или “внешняя судьба”) раскрыть назначение русской философии в бесплодном отрицании её основных интуиций и принципов. Более того, мы увидим, что в светлые минуты своего творчества и они возвращались к этим интуициям и принципам. В те светлые минуты, которые нередко наступали на пороге смерти – этого финала всех трагедий. Тогда мы поймём глубокий смысл слов Павла Бакунина о том, что “умирает несовершенное... но совершенная действительность не умирает” [7]. В этих словах русский мыслитель выразил не столь характерный для “религиозной философии” панический страх перед смертью, но спокойное признание её высокого смысла – ибо именно смерть окончательно разделяет достойное и недостойное вечности; отделяет то, что остается живым и после смерти, от того, что было по сути мёртвым и при жизни. И сегодня наша задача: верно определить живое и мёртвое в русской философии – чтобы сказать твёрдое “да” первому и столь же твёрдое “нет” второму.Конечно, ни один из русских мыслителей не выражал в своем творчестве только “совершенную действительность” русской философии; в каждом из них происходила своя борьба между живым и мёртвым. Поняв это, мы открываем собственно трагический характер русской философии, когда трагедия оказывается внутренним, личным состоянием (и достоянием) русского мыслителя. Но здесь снова необходимо подчеркнуть главное: и эта внутренняя трагедия имеет тем большее духовное значение, чем глубже и полнее стремился данный мыслитель выразить подлинно русское в русской философии, чем он твёрже хранил верность её
настоящим началам, её национальному духу – и потому вместил в себя всю полноту её трагедии. Вместил потому, что стремился преодолеть не только то “внешнее”, но и то “внутреннее”, что не даёт человеку быть самим собою, быть подлинным человеком. По сравнению с такими мыслителями маловерные и просто неверные оказываются, несмотря на эффектность своих трагикомических “витаний”, лишь персонажами трагедии, а не её героями. Ведь настоящий герой не только борется с антигероем – он принимает бремя трагической борьбы на себя и в себя. Точнее, не бремя, а именно крест – крест познания, а ещё вернее, крест существования, направленного к существенности. Проблема такого креста – центральная проблема русской философии, если не самой русской жизни. Здесь открывается то “трагическое чувство жизни”, которое свойственно именно русскому человеку. Чувство, которое не выражается, как правило, в громких фразах, не упивается своей трагичностью, но зато глубоко переживается и метафизически постигается. Впрочем, и ярких выражений этого чувства в подлинно русской философии более чем достаточно. Приведу пока только слова замечательного русского философа и богослова Виктора Ивановича Несмелова: “великое счастье для человека заключается в том, что никакое счастье на земле не возможно” [8]. В этих словах выражена самая суть русского чувства и понимания трагического. В трагедии человеческого существования – подлинное счастье человека. Именно с отказа от неподлинного счастья, счастья здесь, на земле, начинается настоящее обращение к Богу, настоящая “перемена ума”, просветление образа Божия в человеке. Поэтому слова Несмелова выражают не “антиномию” (ибо никакого логического противоречия в них нет), а самое существо человеческой жизни, её основной метафизический смысл. Смысл, напрямую связанный с тем, что “в этот земной опытный мир помысел о трансцендентном и стремление к нему вносит только человеческий дух, поскольку он сам не от мира сего”, как отмечал уже П.Е. Астафьев, добавляя: “В этом сильном, живом и освобожденном своим безусловным идеалом духе и лежит то Царство Божие, о котором сказано, что оно внутри нас есть” [9]. Трагедия как прорыв из эмпирического и условного к метафизическому и безусловному – освобождает человека; в ней проявляется его духовная сила как таковая; здесь он борется за своё в себе и тем самым утверждает настоящую связь своей земной судьбы и своего горнего назначения.Но не будем забегать слишком далеко вперёд. Выделим в заключение лишь один момент, производный от внутренней трагедии русской философии, но по-своему наиболее ярко её воплощающий, особенно значимый для нас сегодня, “здесь и теперь”. Момент этот связан с тем, что слова Павла Бакунина о двуединстве судьбы и назначения применимы и к личности отдельного человека, и к народу – но, конечно, лишь к народу, обладающему метафизическим духом, и следовательно, народу трагическому, а не просто (и не обязательно) гонимому, униженному и т.д. Трагедия – удел великого, а не “малого” (в духовном смысле) народа, удел народа-нации. При этом трагедия личности и трагедия нации – это по сути одна трагедия. В трагедии раскрывается метафизическая связь личности и народности – связь, осмысление которой является стержнем русской национальной философии. Но именно поэтому для последней её судьба совпала с её назначением. С чисто эмпирической точки зрения такое утверждение может показаться странным. Ведь русская национальная философия, несомненно, потерпела некое историческое поражение. Она забыта или полузабыта; её настоящее лицо спрятано за личиной “религиозной философии”; уважение к её творцам и подвижникам заменил культ её демонов и разрушителей. Но именно это поражение составляет необходимое испытание нашей воли к русской философии. Потерпев поражение, последняя открыла нам единственно верный путь к истине, путь духовной свободы. Потому что толпа (в том числе и “образованная” толпа) всегда на стороне победителей, и только духовно-свободная личность способна стать на сторону побеждённых.
Стать, конечно, не во имя поражения, но и не во имя победы – а только во имя истины. Той истины, настоящее имя которой нам давно известно, имя Христа, Сына Божьего и сына человеческого. “Для нашей мысли возможно только одно из двух: или вечная нелепость бытия (то есть “антиномизм”! – Н.И.), или подлинная правда христианства, третьей возможности не существует”
[10]. Эти слова русского мыслителя ясно выражают самую суть национально-русского типа христианской философии. Попытаемся теперь раскрыть его содержание, основные вехи его становления, главные эпизоды его судьбы и реальные предпосылки его возрождения. Конечно, при этом мы затронем достаточно глубоко творчество далеко не всех русских мыслителей, даже из числа тех, кто сыграл какую-то положительную роль в истории русской философии. Но, если снова вспомнить Аристотеля, “трагедии пишутся лишь о немногих родах” [11]. Поэтому наше главное внимание будет обращено к роду героев, творцов и подвижников русской философии. И лишь с крайней неохотой автору придется начать с краткой характеристики совсем другого рода – рода тех, кто постарался оклеветать или предать забвению род героев. Без такой характеристики, увы, не обойтись в исследовании, которое является историко-философским; ведь, по прекрасному выражению Н.Н. Страхова, “мы должны беречь историю преимущественно как память о том, что было выше нас” [12]. А именно этой памяти нас по-прежнему хотят лишить.Примечания
1. Страхов Н.Н. Философские очерки – изд. 2-ое, Киев, 1906 г., с.374.
2. Лопатин Л.М. Положительные задачи философии, ч.2 – М., 1891 г., с.372.
3. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русский философии – СПб., 1994 г., с.7.
4. Аристотель. Сочинения – т.4, М., 1983 г., с.652.
5. Франк С.Л. Сочинения – М., 1990 г., с.316.
6. Бакунин П.А. Основы веры и знания – СПб., 1886 г., с.384.
7. там же, с. 406.
8. Несмелов В.И. Наука о человеке – т.1, изд. З-е, Казань, 1905 г., с.299.
9. Астафьев П.Е. Вера и знание в единстве мировоззрения – М.,1893г., с.42-43.
10. Несмелов В.И. цит. соч., с.411.
11. Аристотель. Цит. соч., с.661.
12. Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе – кн. вторая, СПб., 1893 г., с.10.
Глава первая. От личины к лицу.
Основные
принципы историко-философского понимания.
§1. “Ложь одиссеев”.
Об искусственной схеме истории русской
философии.
Каждый, кто сколько-нибудь серьезно интересуется историей русской философии, без труда назовёт те книги, которые на сегодняшний день считаются “основополагающими трудами” по данному предмету. Это, в первую очередь, двухтомная “История русской философии” В.В. Зеньковского (1881-1962), увидевшая свет в 1948 году, в Париже; книга с тем же названием Н.О. Лосского (1870-1965), изданная в Нью-Йорке в 1951 году, причем на английском языке; “Очерки по истории русской философии” С.А. Левицкого (1910-1985), изданные в Париже в 1968 году. Если добавить сюда стоящий несколько особняком труд Г.В. Флоровского (1893-1979)
"Пути русского богословия” (1937 год и снова Париж), то мы получим те “источники”, по которым составляет общее впечатление об истории русской философии основная масса “интересующихся” – благо эти книги уже несколько раз переизданы за последние годы (лишь “Очерки” Левицкого удостоились пока всего одного переиздания).Я сказал – “источники”. Но между этими источниками и большинством первоисточников, образующих творческое наследие реальных участников философского процесса в России, дистанция огромного размера. Конечно, отчасти наличие подобной дистанции определялось тем, что воссоздавать подлинную историю в условиях эмиграции было крайне сложно – не было под рукой не только национальных архивов, рукописного, неопубликованного наследия русских мыслителей, но порою даже их главных работ (на это наиболее откровенно указывает в ряде мест своего труда В.В. Зеньковский). Суть, однако, не в этом естественном (если условия эмиграции вообще можно назвать “естественными”) гандикапе. Вопрос в том, а было ли у вышеназванных авторов – и не только у них – настоящее стремление сказать правду о русской философии, дать адекватный образ её истории?
Конечно, следует помнить, что “один и тот же город смотрится по-разному в зависимости от различных положений наблюдателя”, как говаривал Лейбниц, добавляя, что только Богу открывается целостная картина, “ибо нет ни одного отношения, которое укрылось бы от Его всевидения”
[1]. Не будем требовать “всевидения” от наших авторов – хотя именно от них можно было бы ожидать максимального приближения к этому идеалу, ввиду постоянных ссылок на свою “религиозность” как предпосылку именно целостного созерцания. Но мы вправе думать, что и у просто добросовестных исследователей (ведь изначально, ещё у древних римлян, слово religio означало именно добросовестность в любом деле) мы найдём такой образ предмета своих занятий, в котором нет, по крайней мере, вопиющих пробелов и “слепых пятен” изрядной величины. А между тем, как мы сейчас убедимся, подобных “слепых пятен” в их видении русской философии более чем достаточно; хуже того, эти авторы (за исключением разве что Флоровского) не видят именно то, что им не хочется видеть, а не то, что трудно заметить по объективным причинам. В этой их сознательной “слепоте” есть, конечно, индивидуальные различия – то, что вообще не хочет видеть один, у другого вдруг оказывается весьма заметным. Но сказать, что их образы русской философии как бы дополняют друг друга, к сожалению, тоже нельзя. Дело в том, что их взгляд на основной характер русской философии отмечен, в общем и целом, не разнообразием “углов зрения”, а как раз поразительным единообразием. Именно это единообразие (если не сказать – однообразие) суждений, оценок, а главное, самого отбора имён, привлекающих постоянное внимание авторитетных “знатоков” истории русской философии, как бы усыпляет в читателе всякое критическое восприятие. Раз все они говорят, по сути, одно и то же – то, наверное, так оно и было?Но всё было совсем не так. “Историография” русской философии, созданная в эмиграции, на деле окутала свой предмет неким “облаком пыли” (если использовать известную метафору Дж. Беркли), которое именно мешает нам видеть; её рассказ о прошлом неверен во множестве деталей, сугубо пристрастен, а главное, по существу лжив. Это типичная “ложь одиссеев” (коих было немало в злополучном ХХ веке), с одним, однако, нюансом – она рассказывалась не по возвращении в Отечество, а в чужом краю. Ложь такого рода, на мой взгляд, наихудшая; ложь не о том, что они увидели и испытали на чужбине ( где многое можно неверно понять именно как чужое), но ложь о своем родном, о том, что на Западе всегда плохо знали и ещё хуже понимали.
Слово “ложь” подразумевает сознательное искажение истины. И для использования такого слова есть веские основания, как общего, так и частного порядка. Сначала – для наглядности – частные примеры. Сочиняя свою “историю”, – где много места уделено “историософским” воззрениям ряда философов – Зеньковский не мог не знать, что одним из выдающихся русских мыслителей, внесшим основной вклад в философию истории
, даже совершившим настоящий переворот в этой области, был Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885); но его имя, к слову сказать, всемирно известное, в книге Зеньковского даже не упомянуто. Не мог о. Василий не знать и о существовании П.Е. Астафьева – хотя бы потому, что этот мыслитель был, пожалуй, самым решительным оппонентом В.С. Соловьева; последний, в свою очередь, полемизировал с Петром Астафьевым и явно, и неявно (но вполне очевидно по адресату полемики) по целому ряду ключевых и для самого Соловьева проблем: о сути христианского понимания общества, о значении национального самосознания, о месте личности и в религии, и в общественной жизни, и в самой философии “всеединства”. И причина “забывчивости” о. Василия в данном случае совершенно ясна: в этой полемике именно Соловьев выступал как крайний антиперсоналист, тогда как Астафьев отстаивал абсолютное достоинство личности в православно-русском мировоззрении. Вот почему Зеньковский решил этот спор просто проигнорировать, а заодно “вынести за скобки” и самое существование П.Е. Астафьева, одного из самых ярких русских метафизиков-персоналистов. Чисто конъюнктурный (в условиях Запада) “персонализм” о. Василия не позволял допустить и мысли, что идею и значение личности в русской философии XIX века наиболее твердо отстаивали “отъявленные реакционеры” типа Петра Астафьева.Но ещё показательней для характеристики В.В. Зеньковского в качестве историка русской философии даже не те ситуации, где он набирает в рот воды, игнорируя “неудобных” для его схемы мыслителей, а те, где он становится восторженно говорлив. В частности, в своей “истории” профессор Православного богословского института в Париже решает очень трудный вопрос: кого из двух “русских мыслителей” считать самым великим: Семена Людвиговича Франка, уже упомянутого выше борца за “свободное витание”, или Льва Исааковича Шестова-Шварцмана (1866-1938). Выбор, что и говорить, непростой – но о. Василий находит поистине соломоново решение. “Система Франка”, узнаем мы, “есть высшее достижение, высшая точка развития русской философии вообще”
[2]. Но ни в коем случае нельзя обидеть и Шестова. А посему “творчество Шестова как бы завершает всю напряженную борьбу русской мысли с секуляризмом. В Шестове мы доходим до высшей точки в этом основном движении русской мысли” [3]. Итак, вот сразу две “высшие точки” – одна “вообще”, а другая “в основном”.Что тут сказать? Сказать, я думаю, необходимо в первую очередь следующее. В заключение своей “Истории” В.В. Зеньковский выражает твердое убеждение в том, что все “подлинно живые творческие темы философского размышления восходят к благовестию Христову и потому и не могут быть разрешены вне его”
[4]. Кроме того, и здесь, и в других работах он постоянно подчеркивает неразрывную связь Христа и Церкви, говоря, например, так: “христианство не может быть понято и воспринято вне Церкви” [5]. Наконец, нет нужды уточнять, что для о. Василия Церковь и Православие – понятия столь же неразделимые, как Церковь и Христос; но неразделимые, похоже, только на словах. Действительно, каким же образом одной из двух “высших точек” русской философии оказался у Зеньковского мыслитель, религиозно-философские искания которого совершенно явно проходили вне Православия, вне Церкви, да по сути дела – и вне благовестия Христова? Ведь ни о каком “воцерковлении” в жизни Л.И. Шестова говорить не приходится – от Православия он был далёк не только в “обрядовом”, но и в сколь угодно широко понимаемом “духовном” смысле (если вообще можно разделять “обряд” и “дух” в жизни православного христианина). Более того: если даже встать на самую либеральную точку зрения, если считать “христианским мыслителем” всякого, кто напряженно размышляет о Христе и Его благовестии – то и по этому, предельно широкому критерию, Лев Шестов христианским мыслителем не является. Самое имя Христа Спасителя практически не встречается в его бесконечных “религиозно-философских” трактатах, где даже прямая цитата из Евангелия – редчайший, а то и вовсе отсутствующий гость. Бог Льва Шестова – это только “Бог Авраама, Исаака и Иакова”, а не Бог Евангелия. Религиозно-философское мышление Шестова насквозь ветхозаветно – что, впрочем, верно (как будет показано ниже) и в отношении Франка, да и других “корифеев ренессанса”. Но в случае Шестова это не только верно по сути – это совершенно явно, это просто “режет глаз”.А коли так, то какова же настоящая цена тому критерию “воцерковления”, который В.В. Зеньковский то и дело использует в своей “истории” ? Ответ ясен уже сейчас – цена эта равна нулю, раз “высшей точкой” в “основном движении” русской философии оказался мыслитель, абсолютно оторванный от жизни Церкви, даже не питавший сколь-нибудь заметного интереса к православно-святоотеческой традиции. Суть дела, однако, не в том, что о. Василий лукавит со своим якобы основным для него критерием (хотя и в наличии определенного лукавства не приходится сомневаться) – суть в том, что данный критерий несостоятелен при оценке философского значения любого мыслителя. Но другого, настоящего критерия Зеньковский не знает или не хочет знать. А посему ему приходится использовать хорошо известную “двойную бухгалтерию”: самую строгую (в смысле “воцерковления”, “православности” и т.д.) требовательность по отношению к “чужим” и беспредельную снисходительность по отношению к “своим”.
Что касается самого принципа деления на “своих” и “чужих”, то здесь, как и в вопросе о “воцерковлении”, нечто глубоко серьёзное перемешано у Зеньковского с откровенно трагикомическим. О последнем тоже надо сказать, причем без всяких недомолвок. В том ли беда, что Зеньковский поместил на самую вершину русской философии двух мыслителей, которые не были “этнически” русскими? Нет, подлинная беда не в этом – это только “знак беды”. Всякое непосредственное отождествление этнического и национального, в настоящем смысле слова, является теоретически неверным и практически бесплодным; такое отождествление отвергали и те русские мыслители, которые продумывали данную проблему действительно глубоко и серьезно. Поэтому если бы С.Л. Франк и Л.И. Шестов действительно выражали дух русской национальной философии, настоящий пафос, то их этнос не имел бы решающего значения (хотя какое-то значение он всё равно бы имел). Но слишком ясно, что в выборе этих двух фигур в качестве объекта самых неумеренных дифирамбов о. Василием руководили, среди прочего, соображения, которые определялись вовсе не их реальным местом в русской философии (местом, которого мы коснемся в главе о “ренессансе”), а проблемой совсем иного рода – проблемой “интеллектуального выживания” Зеньковского и его коллег по “Православному институту” в условиях эмиграции. “Одиссей” ХХ века искал благосклонности тех, кому была не только чужда, но и глубоко враждебна самая мысль о русской (да и не только русской) национальной философии. И в этом низком искательстве В.В.Зеньковский действительно “дошёл до высшей точки”.
Конечно, для подобных натяжек и передержек (когда подлинные корифеи преспокойно отправлялись в небытие, а мнимые – создавались по сути “из ничего”) существовали и более “концептуальные” мотивы, чем заурядное искательство; мотивы, связанные именно со слепотой к духовному типу русской философии. Но прежде чем обсуждать эти мотивы, рассмотрим ту общую схему истории русской философии, которая присутствует в трудах В.В.Зеньковского и других. Схему, которая сегодня является господствующей, “общепризнанной”; поставлена вне всякой критики и даже самых робких сомнений в её безупречности. Её воспроизводят, порой вполне bona fide, и нынешние российские “специалисты” по истории русской философии; на почве этой схемы сходятся, скажем, “патриот” А.В. Гулыга и “демократ” С.С. Хоружий, не говоря уж о серой массе других авторов, чьи учебники, пособия и просто вольные штудии по многострадальной “истории русской философии” наводнили сегодняшний книжный рынок. Та же схема, добавим, определяет и издательскую политику “возвращения” русской философии к современному читателю – в форме перепечатки сочинений одних и тех же “корифеев”, при почти полном забвении русских мыслителей, для которых нет места в данной схеме
.Суть этой схемы предельно проста. А именно: выделяется некая “основная линия” русской философии, по отношению к которой вс` остальное выступает в роли “побочных явлений”. Эта основная линия называется религиозной философией и состоит как бы из трех отрезков, характер которых можно свести к формуле: В.С. Соловьев, его предшественники и последователи. Вот, по сути дела, и вся “концепция” – крайне примитивная и, что значительно хуже, абсолютно неверная.
Следует, конечно, сразу уточнить: речь идет именно о существе схемы, которую навязывают труды В.В. Зеньковского и его единомышленников в понимании (а точнее, непонимании) русской философии. При конкретном “наполнении” этой схемы, при её превращении в подобие реального исторического процесса, мы получаем, естественно, более затейливую картину. Но для читателя, который хотел бы уловить именно главное, это “главное” сводится, несомненно, к выделенному выше. В качестве иллюстрации приведу характерное резюме истории русской философии, которое дает Н.О. Лосский на первых страницах своего “англоязычного” труда: “Начало самостоятельной философской мысли в России ХIХ века связано с именами славянофилов Ивана Киреевского и Хомякова... Владимир Соловьев был первым, кому выпала честь создания системы христианской философии в духе идей Киреевского и Хомякова. Его преемники составляют целую плеяду философов. Среди них философы-богословы – князь С.Н. Трубецкой, его брат Е.Н. Трубецкой, Н.Ф. Федоров, отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, Эрн, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, И.А. Ильин, отец Василий Зеньковский, отец Георгий Флоровский, Б.П. Вышеславцев, Н. Арсеньев, П.И. Новгородцев, Е.В. Спекторский. Это движение продолжает развиваться и расти по настоящий день”
[6].Резюме поистине замечательное во всех отношениях, кроме одного – своего отношения к истине. Последняя присутствует здесь разве что в первой фразе; дальше начинается миф, а точнее, историко-философская басня или сказка для доверчивых читателей. Но прежде всего отмечу следующее: опустив часть этого резюме, я не опустил ни одного имени. И сразу бросается в глаза – во всей русской философии ХIХ века для Н.О. Лосского существенно значимы только фигуры В.С. Соловьева и двух его мнимых “предшественников”. А если вспомнить годы смерти последних (1856 и 1860), то получается, что вся вторая половина ХIХ века ознаменована только творчеством Соловьева! Не меняет общей картины и то, что другой “историограф” (и ученик Лосского) С.А. Левицкий выделяет (и вполне резонно, с точки зрения той же схемы) не Ивана Киреевского и Хомякова, а мыслителя совсем иного склада – когда открывает свои “Очерки” следующей тирадой: “О русской мысли в собственном, философско-научном смысле слова можно всерьез говорить лишь начиная с 40-х годов ХIХ столетия, когда впервые Чаадаевым был поставлен ребром вопрос о смысле существования России”
[7]. Но ведь и П.Я. Чаадаев – это тоже первая половина прошлого столетия. Получается, что в дальнейшем, на протяжении нескольких десятилетий, русская философия была как бы пустыней, в которую забрел, наконец, “мессия” (якобы создатель “системы христианской философии”) Владимир Соловьев. Все остальные – недостойны даже упоминания, по крайней мере, при характеристике основного содержания “истории русской философии”.Зато далее – поток “преемников”, в число коих у Лосского почему-то попадает Н.Ф. Федоров (1828-1903), чьи экстравагантные – и по существу глубоко ложные – воззрения сложились совершенно независимо от Соловьева и были только подхвачены последним. Этот курьезный анахронизм лишний раз показывает, насколько не хочется Лосскому выделять современников Соловьева (даже тех, кто был ему в чем-то близок), а хочется свести дело к реальной или мнимой “преемственности”, фактически – к апологии всё того же “религиозно-философского ренессанса” и его эмигрантского эпилога. Здесь Лосский уже предельно щедр в “назывании имен” – в “плеяду” попали даже такие третьестепенные фигуры, как активный экуменист Н.С. Арсеньев (1888-1977) и коллега Лосского по Русской духовной академии в Нью-Йорке Е.В. Спекторский (1875-1951). Но в остальном это вполне канонический набор имен, где, правда, неосторожно забыта одна из двух “высших точек” – Л.И. Шестов. Но эту ошибку учителя исправляет Левицкий, заодно убрав из списка “классиков ренессанса” одного явно лишнего здесь мыслителя (какого именно, скажем чуть позже). Так или иначе, совершенно ясна та общая картина истории русской философии, которую хотели внедрить в память потомства наши “историографы”: в ХIХ веке – Владимир Соловьев и горстка “предшественников”; зато в ХХ веке (который для русской философии в России свелся менее чем к двум десятилетиям свободного существования) какой-то колоссальный расцвет – расцвет, которому совсем не помешала эмиграция. Более того, по сверхоптимистическому заявлению Н.О. Лосского (обнародованному, напомню, в 1951 году), “движение” русской философиии по стезе, начертанной Соловьевым, “продолжает расти и развиваться”. Тут даже не требуется особых комментариев – указанное “движение” к тому времени уже практически исчезло. Русская философская эмиграция доказала, по крайней мере, одно – что национальная философия (как жизнеспособная традиция) невозможна без национальной почвы. Впрочем, русский дух покинул большинство “корифеев ренессанса” ещё прежде, чем они оставили русскую почву. Покинул ещё тогда, когда они сами, в угаре “ренессанса”, разрывали связь с традицией национальной философии.
Конечно, следы этой традиции, иногда весьма отчетливые, можно без труда найти и в баснях, выдаваемых за “историю”. Но общий замысел этих басен состоял все-таки в том, чтобы задвинуть на задний план национальную философию как таковую, превратить в “несущественные” (а то и просто “несуществующие”) фигуры почти всех её главных представителей, отделавшись признанием только одного уж слишком очевидного факта – философского значения творчества ранних славянофилов, прежде всего, И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Именно это признание составляет первое звено схемы, тот ловкий “дебютный ход”, который позволяет направить всю партию в нужное русло – благодаря тому, что и здесь нам предлагают лишь полуправду, освещают лишь одну (и притом не главную) сторону той философской программы, которую наметили родоначальники русской философии. Именно “приблизительное” представление о философских взглядах Ивана Киреевского и Хомякова открывает двери уже просто ложному пониманию истории русской философии в целом. Вот почему этим взглядам (а точнее, интуициям и догадкам, не раскрытым сколь-нибудь полно и потому легко “корректируемым”) необходимо уделить самое пристальное внимание. Здесь – ключ к верному пониманию нашего философского наследия, к определению духовного типа русской философии. Впрочем, не менее важно осветить в самом начале и особую роль ещё одного мыслителя, помещаемого иногда в число “предшественников Соловьева”. Это П.Д. Юркевич (1826-1874), фигура глубоко трагическая, причем вовсе не по причине той травли , которую испытал этот мыслитель со стороны “прогрессивного общества” за самый внешний элемент своего творчества – за борьбу с материализмом. Сводить дело к подобной борьбе, которая естественна для каждого, кто вообще заслуживает имени философа – значит проходить мимо настоящей трагедии этого мыслителя. Суть дела в том, что П.Д. Юркевич – и притом вполне сознательно – вынес приговор своей собственной философии, своей собственной фундаментальной ошибке (которую много лет спустя повторила на Западе так называемая “феноменология). Этого приговора даже не заметил его “ученик” В.С. Соловьев; не захотели его заметить и наши “историографы”, проявив и свою обычную слепоту к подлинно трагическому, духовно значимому в русской философии, и свое раболепное отношение к “мудрости” упомянутых выше божков “жалкого времени”. Добавим, что тот же приговор – суть которого мы рассмотрим в следующей главе – относится, по существу дела, и к утопии “христианского эллинизма”, которую развивал впоследствии
Г.В. Флоровский, несмотря на свое достаточно критическое отношение к “религиозной философии” в стиле Соловьева и эпигонов. Короче, уже внимательный анализ первого звена историко-философской схемы, созданной в “русском зарубежьи”, покажет её полную несостоятельность.Ещё резче такая несостоятельность, полный отход от правдивого изображения истории русской философии проявляются во втором звене данной схемы, звене, которое можно назвать центральным и в буквальном, и в более важном логическом смысле. В чем же его суть и одновременно – основная фальшь, основное искажение исторической правды? Это – культ Владимира Соловьева, и как единственного “корифея” русской метафизики 70-90-х годов ХIХ века, и как центральной фигуры русской философии в целом. Зеньковский и прочие могли не сходиться в вопросе о “высших точках” (скажем, Николай Лосский считал такой точкой, несомненно, себя самого), но в центре, в самом фокусе истории русской философии они неизменно помещали В.С. Соловьева. Культ последнего – созданный в начале ХХ века усилиями, главным образом, экс-марксистов, типа С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяева – в корне искажал реальное положение дел в русской философии последней четверти ХIХ века. В этот важнейший период творчество Соловьева примечательно, строго говоря, лишь
одним: оно представляло тот фрагмент русской философии, который постепенно всё более отделял себя от национальной философии как таковой, превратившись, в итоге, в некий “духовный остров”. Причем остров, с которого совершались энергичные набеги на континент – набеги и в смысле упорного стремления разрушить то, что строили на этом континенте настоящие творцы русской философии; и в смысле достаточно наглых попыток присвоить достижения настоящих творцов (именно присвоить, а не усвоить, так как самая суть достижений при этом неизменно искажалась). В том разделе главы “Континент и остров”, который посвящен этому агрессивному “острову”, мы рассмотрим оба указанных аспекта деятельности В.С. Соловьва, а заодно увидим и трагедию личного самосознания этого, несомненно, незаурядного человека – ибо именно глубочайшее искажение не чужих идей, а его собственного самосознания (искажение, доходившее до прямого безумия, известного как mania grandiosa, причем в сугубо антихристианской форме, чем-то сродной безумию столь “презираемого” Соловьевым Ф. Ницше), определило весь строй его “свободной теософии”. Отвергая с какой-то чисто личной ненавистью даже понятие “самосознания” (в полемике с П.Е. Астафьевым, в “статьях по теоретической философии” и т.д.), Соловьев по сути дела убегал от себя самого, от своего духовного недуга. И это бегство дает, действительно, некий вечный урок; поэтому и судьба “злого гения” русской философии, каковым был Владимир Соловьев – и эта судьба раскрывает, пусть “от противного”, настоящее назначение русской философии. Впрочем, как уже отмечалось выше, разрушение мифа о Соловьеве не является для нас самоцелью – оно просто необходимо для узнавания подлинных корифеев национальной философии, которыми была так богата именно русская мысль конца ХIХ века.Конечно, многие из них как-то вписываются в разбираемую схему, получают здесь некие “характеристики”, причем у В.В. Зеньковского порою довольно развернутые, изредка даже сочувственные (как, например, в случае Л.М. Лопатина), выделяющие их заслуги перед русской философией. Но искусственность схемы проявляется даже и в этих случаях. Скажем, тот же Лев Лопатин “проходит” у Зеньковского по разряду “русских (нео)лейбницианцев”. И это прием, типичный именно для искусственной системы; прием, который необходимо отметить уже сейчас, чтобы в дальнейшем обратить внимание на косвенно связанные с ним реальные проблемы самобытности русской философии. Уточним: если бы Зеньковский постарался распределить всех значительных русских мыслителей по группам, названия которых выражают связь этих мыслителей с теми или иными классиками европейской философии, их преемственность к тому или иному идейному направлению, возникшему на почве более древней, чем русская, философской традиции – против такого приема я не имел бы, вообще говоря, серьезных возражений. Таким образом мы получили бы пусть и односторонний, но по-своему полезный взгляд на русскую философию, высветили бы нечто достаточно важное – реальную связь русской и европейской мысли. Но в том-то и дело, что Зеньковский пользуется этим
приемом лишь с одной целью: указав на “родство” между определенным русским мыслителем и классиком (или направлением) европейской философии, резко снизить значимость первого именно как самостоятельного мыслителя. Неслучайно, что Зеньковский находит почему-то лишь трех выдающихся европейских философов, творчество которых отозвалось в эпоху “зрелости” русской философии особыми направлениями: Лейбниц в “русских лейбницианцах”, Кант в “русском кантианстве”, Гегель в “русском гегельянстве”. Но где же еще, по крайней мере, два гиганта Нового времени, где Спиноза и Шеллинг? Где “русские спинозисты” и “русские шеллингианцы” ? Для Зеньковского таковых в русской философии уже со второй половины ХIХ века как бы нет. Почему, догадаться несложно: это подорвало бы авторитет В.С. Соловьева и его эпигонов! Между тем, о влиянии Шеллинга на Соловьева даже неловко распространяться – десятки страниц “Чтений о Богочеловечестве” просто переписаны последним с первого. Под знаком Шеллинга стоит, собственно, вся “философия всеединства”; стоит, по крайней мере, ничуть не меньше, чем творчество т.н. “русских гегельянцев” (вроде Н.Н. Страхова и П.А. Бакунина) под знаком Гегеля. Но не только и даже не столько Шеллинга – подлинным предтечей и учителем здесь был именно Спиноза, под сильнейшим влиянием которого находился и сам Шеллинг [8]. Причем если “ранние шеллингианцы” начала ХIХ века были ещё относительно свободны от прямого влияния Спинозы (чей материализм и латентный атеизм они понимали достаточно ясно), то В.С. Соловьев (как позже С.Л. Франк) ничуть не таил своего духовного родства именно с этим крупнейшим противником христианского теизма в философии Нового времени [9]. Назвать Соловьева “русским спинозистом” было бы не только вполне справедливо, но, следует думать, и глубоко лестно для него самого (если судить, например, по статье “Понятие о Боге” (1897), на которой мы ещё остановимся в соответствующей главе). Но никакого даже отдаленного намека на существование “русского спинозизма” у Зеньковского, естественно, нет. И прав он лишь в одном отношении – “русский спинозист”, будь то Соловьев, Франк или кто другой – это, по сути дела, уже не русский философ.Еще один момент, связанный с “культом Соловьева”, наглядно иллюстрирует объективность обсуждаемой схемы. Да, часть того континента русской философии, который отодвигается в тень “свободной теософии”, получает здесь какое-то освещение. Но вот что поразительно: именно прямая полемика между Соловьевым и его современниками начисто выпадает из “историографии” подобного рода. Молчат (или в лучшем случае отделываются самыми беглыми замечаниями) о том принципиальном споре, который шёл между Соловьевым и Страховым, и был начат, к слову сказать, именно первым, его клеветническими (что признают сегодня и сугубо “нейтральные” исследователи
[10]) нападками на революционное по своему значению учение Данилевского о культурно-исторических типах. Между тем, спор этот очень быстро вышел за первоначальные рамки, стал не только социально-философским, но и метафизическим спором – о соотношении единства и многообразия в устройстве мира, о правильном понятии “духовного организма” и т.д. (различные аспекты это спора мы ещё рассмотрим ниже). Молчат, далее, о той развернутой критике, которой подверг основные работы Соловьева замечательный русский мыслитель Б.Н. Чичерин, чьи книги, начиная с “Мистицизма в науке” (1880 г.), раскрывают коренные дефекты “свободной теософии” – и как метафизической концепции, и как этического учения, и как социально- политической программы. Молчат, естественно, о той полемике между Соловьевым и Астафьевым, на значение которой мы уже указывали выше. Молчат о важном споре Соловьева с А.И. Введенским (1856-1925) как раз относительно учения Спинозы, атеистическую суть которого Введенский показал, можно сказать, с “геометрической” точностью. Молчат и о многом другом, что связано с полемикой между Соловьевым и Лопатиным (полемикой, в которой Соловьев продемонстрировал стремление к полному изгнанию человека из области метафизической проблематики); о меткой критике основных философских постулатов Соловьева в работах Николая Дебольского... На первый взгляд, такое молчание совершенно необъяснимо – ведь наличие подобной полемики вроде бы доказывает, что В.С. Соловьев был и в свое время фигурой весьма заметной. Объяснение, и очень простое, тем не менее, существует. Дело в том, что все споры с настоящими русскими мыслителями из числа своих современников Соловьев очевидным образом проиграл как философ, несмотря на несомненные успехи в изобретении ядовитых полемических стрел в адрес оппонентов. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть соответствующие историко-философские документы. Но искусственная схема истории русской философии, построенная именно на культе Соловьева, как раз и стремится увести от этих документов наше внимание, дав “право голоса” лишь одной стороне. Тем самым из истории русской мысли удаляется тот ключевой элемент духовной борьбы, о котором уже говорилось во введении к данному исследованию. Читая Зеньковского, Лосского, Левицкого – вообще нельзя эту борьбу по-настоящему почувствовать, “потрогать руками”. Несмотря на постоянные упоминания о неких условных противниках “религиозной философии” – “секуляризме”, “трансцендентализме”, “имманентизме” и прочих безличных “измах” – история русской мысли предстает здесь удивительно пресной, подозрительно напоминающей маниловские “именины сердца” – сердца, которое по сути уже перестало биться. Но ведь только в реальной борьбе, в реальном споре – который, по метафизически точному выражению П.А. Бакунина, есть “выход в среду другого” – постигается “та бесспорная истина, которая служит основанием всякого спора”, ибо только в споре (где зримо присутствуют все его участники) познаются “другие различные меры той же самой истины” [11]. Казалось бы, уж это-то должны были понимать поклонники “антиномизма”, “единства противоположностей” и т.п. Но даже их “антиномизм” оказывается на поверку липовым. В их “историях” русская философия оказывается лишь безжизненным “всеединством” – оказывается лишь тенью настоящей истории, настоящей духовной борьбы .Мы уже фактически определили основные пороки искусственной схемы истории русской философии. Во-первых, она крайне обедняет реальное содержание этой истории, настраивает читателя на невнимание там, где требуется особенно пристальное внимание – поскольку именно во второй половине ХIХ века был положен фундамент философской культуры в России, тот фундамент, который как раз и составляет субстанцию русской философии, основное в ней. Во-вторых, эта схема нарушает элементарные принципы правильной (или естественной) классификации духовных явлений – к сказанному о классификации по признаку “зависимости” от определенных европейских мыслителей можно добавить, что, например, С.А. Левицкий распределяет русских философов ХIХ века (за исключением, конечно, Соловьева) по их “общественным взглядам”, лживо утверждая, что здесь нет возможности распределить их “по чисто философскому признаку”, выдавая свою слепоту к “философскому ядру” их творчества за отсутствие такового
[12]. В-третьих, эта схема практически игнорирует диалектику духовной борьбы в русской философии, а тем самым – и реальную “включенность” отдельного философа в живой философский процесс. “Так говорил Чаадаев”, “так говорил Хомяков”, “так говорил Соловьев” – вот, по сути дела, и все, что наши “историографы” могут сказать даже о тех фрагментах русской философии, которые они замечают (несколько иначе обстоит дело только у Г.В. Флоровского – но последний написал книгу о русском богословии, а не о русской философии; различие, как станет ясно ниже, весьма существенное). Короче, кроме самого неопределенного (и по сути фальшивого) деления русских мыслителей на “религиозных философов” и “всех остальных”, эта “историография”, по большому счету, никак не раскрывает реальное строение, сложный духовный организм русской философии.Но казалось бы, что при переходе к третьему звену схемы, к явлению российского “религиозно-философского ренессанса” начала ХХ века в лице “преемников Соловьева”, эти коренные дефекты уже не должны проявляться так остро. Ведь данные дефекты можно списать на то, что для Зеньковского и прочих вся русская философия “доренессансного” периода была, по сути, предфилософией, подготовкой подъема на собственно философский уровень. Зато уж этот “подъем” должен получить самое серьезное, формально и содержательно выверенное освещение.
Как говорится: отнюдь. Пороки подхода к “доренессансному” периоду при этом, по сути, сохраняются, дополняясь новыми. Прежде всего, здесь становится особенно очевидной полная методологическая беспомощность эмигрантской “историографии”, её неспособность понять строение даже “важнейшего” периода русской философии. Главные представители этого периода или сбиваются в одну группу “классиков ренессанса” (как у Левицкого), или разбиваются на некие пары (Булгаков – Флоренский, Франк – Карсавин, Бердяев
– Шестов, неразлучные братья Трубецкие, по “методологии” Зеньковского). А по сути – все они перебираются порознь, опять-таки по принципу “имярек говорил”. При этом обнаруживается особенно наглядно та же пристрастность в отборе кандидатов на звание “классиков” и “корифеев”. У С.А. Левицкого его учитель Н.О. Лосский – первый среди “классиков ренессанса”; зато у В.В. Зеньковского тот же философ оказывается вообще вне этого круга, попадает, бедняга, в периферийную группу “русских лейбницианцев”. Какие-то основания для такой “ссылки”, конечно, есть: ядро своей метафизики, учение о мире как системе индивидуальных “субстанциальных деятелей”, Н.О. Лосский прямо позаимствовал у А.А. Козлова и Л.М. Лопатина, хотя очень плохо понял основную интуицию русского персонализма – интуицию абсолютной достоверности самобытия (и потому в своей гносеологии пошел, как и Франк, по пути “интуитивизма”, стирающего принципиальное различие между само- и инобытием). Но чем Лосский не угодил Зеньковскому, понять все-таки сложно: то ли именно связью (в отличие от Франка, хоть какой-то!) с русской философской традицией, то ли “нелояльным” отношением к “софиологии”, то ли поддержкой (пусть и очень сдержанной) позиции И.А. Ильина по вопросу о “сопротивлении злу силой”... Кстати, отношение к творчеству Ивана Александровича Ильина (1882-1954) до боли напоминает манеру обращения наших “историографов” с русскими мыслителями ХIХ века. Если верить книге Левицкого, русского философа Ивана Ильина просто не было – ни среди “корифеев” русской философии, ни на её периферии! Отец Василий в данном случае более великодушен – загнав этого крупнейшего мыслителя в группу “трансценденталистов”, он усердно подчеркивает, что в работах И.А. Ильина есть только “религиозная фразеология”, но ему вполне “чужда сфера религии” [13]. Короче, наш “историк” откровенно сводит здесь и узко-политические, и идейно-философские счёты с мыслителем, который (один из очень немногих) освободился от “ренессансной” одури и “ренессансного” нигилизма. И число таких примеров нетрудно умножить. Абсолютная искусственность и произвольность обсуждаемой схемы становится просто вопиющей именно там, где она, казалось бы, должна была “заработать” в полную силу.Могут заметить, что всё это – детали; что я “придираюсь” к тем, кто пытался разобраться в сложном явлении “религиозно-философского ренессанса”, проявляя при это естественные симпатии и антипатии. Но во-первых – “дьявол – в деталях”; а во-вторых, именно на сложность явления эти историки русской философии упрямо закрывают глаза. И проявляется это особенно ярко, опять-таки, в том пункте, где и Зеньковский, и Лосский, и Левицкий вполне единодушны. А именно, они словно не замечают никакого различия между “ренессансом” как особым периодом русской философии в России – и периодом эмиграции. Ну, писали свои книги в Москве и Петербурге – потом продолжали писать в Берлине, Праге, Париже и т.д. Русская философия просто “поменяла квартиру”; не по своей воле, конечно, но в сущности, ничего для нее страшного (именно как для русской философии) не произошло. Здесь вспоминаются слова Петра Киреевского (1808-1856) из письма к брату: “книги везде, народы же и земли только на своих местах”
[14]. Добавим – только на своем месте может существовать и национальная философия, хотя книги “по философии” можно писать, конечно, где угодно. Дальнейший анализ, надеюсь, убедит читателя в том, что никакой русской философии (в собственном смысле слова, как целостного духовного явления) в эмиграции по сути не было. Была, однако, трагическая расплата за измену русскому духу; измену, которая состоялась, повторю ещё раз, много раньше, чем отошёл от пристани пресловутый “философский корабль”. Именно трагедии “корифеев ренессанса”, той трагедии, где по-своему проявилась та же связь судьбы и назначения, не сумели (и не захотели) понять их апологеты. И это главный порок последнего звена их ложной схемы.Ложь, измена, расплата – нужны ли эти звонкие слова-обвинения? Допустимы ли они в серьезном исследовании? Признавая законность подобных вопросов со стороны вдумчивого читателя, автор, тем не менее, и в дальнейшем не будет избегать резких слов и однозначных оценок – ибо слишком многое поставлено сегодня на карту. Ниже, рассматривая взгляды русских метафизиков (таких, как Н.Н. Страхов и П.А. Бакунин) на природу времени, мы увидим вместе с ними, что время течет в прошлое, причем именно потому, что является творческим процессом, процессом превращения неопределенного (будущее) в определенное (прошлое). А если так, то наше понимание прошлого русской философии, память о ней – это именно творческий акт, от характера которого прямо зависит, каким окажется будущее философии в России. Извращая прошлое, навязывая в качестве идеала тот “ренессанс”, который был, на деле, духовной болезнью, вырождением русской мысли – нас толкают на путь дальнейшей деградации и духовной гибели. А что до резких слов, то ведь есть нечто значительно худшее, чем они; худшее даже по сравнению с неоправданно-резкими словами. Это – замалчивание всего неугодного, превращение “бывшего в небывшее”. Вот к этому приему я никоим образом не намерен прибегать, оставляя его нынешним специалистам по “либеральной цензуре”. Задача данной книги – осветить трагедию русской философии в целом, а не заменить одни “белые пятна” в её истории на другие.
Но прежде чем переходить к проблеме адекватного освещения истории русской философии, отмечу два недоумения, которые, возможно, промелькнули у читателя в связи со сказанным выше. Во-первых, охарактеризовав эмигрантскую “историографию” как сугубо одностороннюю и просто лживую, я не коснулся вопроса о
советской “историографии”. Не коснулся лишь потому, что считаю последнюю столь же фальшивой, строившей столь же искусственную схему – только с использованием ещё более бездарных “методологических” приемов. Неслучайно сегодня весь легион “советских философов” ударными темпами перешёл на позиции своего “классового врага”; дело здесь не только в холуйской готовности служить любым хозяевам, выполнять какой угодно “социальный заказ” – но и в том, что подобный переход не потребовал никакой “метанойи”, подлинной перемены ума. Ну, стоял раньше в центре Владимир Ленин, а не Владимир Соловьев; ну, были, соответственно, другие “предшественники” и “последователи” – да и настолько ли уж другие? Другие, конечно, по именам – но всегда ли по собственно философской сути своих идей? ещё в 20-ые годы замечательный русский философ-педагог Г.И. Челпанов (1862-1936), оставшийся в России, спокойно и мужественно доказал, что т.н. “диалектический материализм” – это одна из разновидностей спинозизма [15], того спинозизма, который, как уже отмечалось выше, составлял метафизическую основу также и “философии всеединства” в стиле Соловьева и эпигонов. Что касается “исторического материализма”, то в специальной главе мы убедимся в его существенном тождестве с той “историософской” схемой, которую развивали Чаадаев, Соловьев, Бердяев и прочие. Короче, между “советской” и “религиозной” философиями существует явный изоморфизм, или структурное тождество. Этот изоморфизм мы будем периодически отмечать и уточнять – не забывая, однако, что у “корифеев ренессанса” все искажения духовного типа русской философии выражались и более ярко, и более поучительно, чем у тусклого сборища “прогрессивных философов”, как дореволюционных, так и собственно “советских”. Не забывая и о том, что не эти “неправедные изгибы” русской (а вернее, русскоязычной) мысли составляют наш главный интерес – интерес, направленный на подлинно русское в русской философии.Но раз и эмигрантская, и советская “историографии” по сути одинаково фальшивы, то возникает вопрос: почему у русской философии не оказалось действительно своей историографии? Ответить на это второе недоумение, конечно, несложно, если сослаться на сравнительную молодость русской философии – ведь “молодость – это возмездие”, по глубокому слову одного из героев Ибсена. Русская философия, в каком-то смысле, просто не успела создать свою историографию – последняя (точнее, её уродливая подмена) стала возникать уже в атмосфере “ренессанса”, со всеми его печальными последствиями. Но это “просто” на деле не является столь уж простым. Здесь мы подходим уже к глубоко внутренней трагедии русской философии. Почему даже такие мыслители, как Л.М. Лопатин и Н.Г. Дебольский, настоящие классики русской философии, жизнь которых оказалась притом достаточно долгой, чтобы подвести их к задаче историко-философского осмысления – уклонились от этой задачи? Почему И.А. Ильин, даже и порвав связь с беспочвенным “ренессансом”, резко отмежевавшись, по его собственным словам, “от псевдофилософского “богословия” наподобие Бердяева – Булгакова – Карсавина и прочих дилетантствующих ересиархов”
[16], не сделал сколь-нибудь серьезной попытки обрисовать духовный тип русской философии, в его конкретном историческом содержании?Ответ на эти естественные вопросы мы, конечно, попытаемся найти – но только после того, как выявим одну принципиальную черту философского творчества как такового. Ту черту, которая заставляла Льва Лопатина сказать уже в конце жизни (причем на торжественном чествовании его заслуг перед русской философией): “моя философская деятельность протекала одиноко”
[17]; черту, с которой связан резкий акцент Ивана Ильина на “лично-одиноком человеке”, на том, что “каждый из нас, несмотря на постоянное, повседневное – сознательное и бессознательное общение, совершает свою жизнь и осуществляет свой земной путь от рождения до смерти в глубоком и неизбывном одиночестве” [18]. Есть важный смысл в строке тонкого русского поэта Якова Петровича Полонского (1819-1898):Русская мысль в одиночку созрела...
Русская национальная философия возникала и вызревала – как всё творческое, всё великое – в глубочайшем уединении человеческого духа, проникала в самую тайну этого уединения, этой единственности, в которой на деле заключается настоящий источник любого подлинного единства. На примере ряда русских мыслителей (А.С. Хомяков, С.Н. Трубецкой, С.А. Аскольдов) мы увидим, как дорого можно заплатить за стремление поскорее уйти от уединения в “общение”, не выстрадав до конца ничем не заменимый опыт уединения; увидим и то, как философская правдивость возвращает настоящих мыслителей к этому роднику истины. Но ещё значимей судьба тех, кто, подобно И.В. Киреевскому, П.Е. Астафьеву, Н.Г. Дебольскому, утверждал и отстаивал свое право на творческое уединение – видел в этом праве свой долг, понимал, что именно так осуществляет философ и служение истине, и служение своему народу. Логика такого служения – трагична; только поняв эту высокую логику настоящей трагедии, мы поймем, как именно должен измениться наш взгляд на историю русской философии, чтобы стала возможна её подлинная историография.
А пока, из всего сказанного в этом параграфе, необходимо сделать главный вывод: нельзя приступать к истории русской философии без основательного размышления над принципами понимания этой истории; нельзя полагаться на ту искусственную схему, которая была создана или вообще без ясных принципов, как бы “экспромтом”, или на принципах, для философии посторонних, далеких от её настоящей сути. Именно выявлению существенных принципов понимания (конечно, извлекаемых из самой истории русской философии) мы и посвятим последующие разделы данной главы.
Примечания.
1. Лейбниц Г.В. Сочинения – т.1, М., 1982 г., с.132, 138.
2. Зеньковский В.В. История русской философии – т.II, ч.2, Л., 1991 г., с.178.
3. там же, с. 82.
4. там же, с. 234.
5. Зеньковский В.В. Апологетика – Рига, 1992 г., с.172.
6. Лосский Н.О. История русской философии – М., 1991 г., с.10.
7. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии – М., 1996 г., с.9.
8. См. Куно Фишер “Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение” – СПб., 1905 г., с.591 и далее (раздел 9. “Учение о всеединстве”).
9. См. превосходное историко-философское исследование В.А. Беляева “Лейбниц и Спиноза” – СПб., 1914 г.
10. См. статью Ю. Пивоварова в журнале “Мир России” – N1, 1992 г., с.181.
11. Бакунин П.А. Основы веры и знания – СПб., 1886 г., с.72.
12. Левицкий С.А. цит. соч., с.7-8.
13. Зеньковский В.В. История русской философии – цит. изд, с.132.
14. Цит. по книге: М.О. Гершензон “Грибоедовская Москва. П.Я.Чаадаев. Очерки прошлого” – М., 16. 1989 г., с.334.
15. См., например, его работу “Психология или рефлексология?” – М.,1926 г.
16. Ильин И.А. Собрание сочинений – т.1, М., 1993 г., с.34.
17. См. Вопросы философии и психологии – кн.111, 1912 г., с.210 (спец.отд.).
18. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта – М., 1993 г., с.43 и другие.
1 Первый том “Науки о человеке” печатался в журнале “Православный собеседник” в 1896-1898 гг., после чего появился отдельным изданием (Казань, 1898 г.). Вместе со вторым томом выходил ещё дважды в самом начале ХХ века. Это, пожалуй, единственное из ключевых произведений русской национальной философии, которое в настоящее время переиздано – но только в той же Казани и, естественно, незначительным тиражом.
В ряде работ современного богослова диакона Андрея Кураева подчёркивается будто бы принципиальное различие между “теософиями” В.С. Соловьёва и Е.П. Блаватской, причём основным аргументом служит критический отзыв первого о последней. Но при этом А.Кураев почему-то умалчивает о сугубо положительном отношении Соловьёва к фантазиям Анны Шмидт, другой яркой представительницы оккультно-теософских исканий. Этот факт признает С.Н. Булгаков в книге “Тихие думы” (М., 1996 г., с. 51 и далее). В области чисто практической философии (не отдающей ясного отчёта в своих метафизических основаниях) прямым предшественником В.С. Соловьёва был, конечно, П.Я. Чаадаев (1794-1856), сочинитель той “историософской” схемы, которую Соловьёв и эпигоны только варьировали, не внося в неё уже ничего принципиально нового. См. ниже главу “Русская философия истории и её « историософский» двойник”. K. Lowith "Denker in durftiger Zeit” – Frankfurt, 1953. Хайдеггер был, однако, не “мыслителем в жалкое время”, а именно мыслителем этого жалкого времени, талантливым выразителем самого духа времени, враждебного духу подлинной метафизики; как и все позитивисты (пусть и “большого стиля”), Хайдеггер подменял дух – языком и потому объективно служил именно тем, кого всегда глубоко презирал. О попытках подкрепить “антиномизм” с помощью ложной “герменевтики” творчества Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева и некоторых других великих русских художников речь пойдет в главе “Сестра русской философии”. По верному наблюдению немецкого философа Дитриха Мака редукция трагического к оксюморонам (от “холодного жара” и выше) характерна для манеризма с его поверхностным пониманием не только сути, но и стиля трагедии – см. D. Mack “Ansichten zum Tragischen und zur Trago die" Munchen, 1970, S. 32. Точный метафизический смысл понятий “крест познания” и “существенность” будет подробно рассмотрен в последующих главах. Естественно, что круг работ “по истории русской философии” значительно шире; сейчас нами названы только наиболее влиятельные исследования, которые можно считать, к тому же, сравнительно полными и, добавим, удобочитаемыми. О том, какую роль играет такое наследие для понимания самого существа творчества того или иного мыслителя (а не только эволюции его идей), видно хотя бы на примере многотомной “гуссерлианы” и других аналогичных изданий в современной западной философии. Весомый вклад в это “единообразие” внёс, конечно, и Н.А. Бердяев (1874- 1948), много писавший на данную тему (часть этих работ представлена, например, в книге “Н.А. Бердяев о русской философии” – Свердловск, 1991 г.). Впрочем, именно в случае Бердяева легко заметить существенное различие между тем “образом” русской философии, который он рисовал в эмиграции, и его взглядом на тот же предмет в России – в частности, в статье “О новом русском идеализме” (1904г.), к которой мы ещё обратимся позже (и которая пока не встречалась мне ни в одном из многочисленных переизданий работ этого философа). Главные аспекты этой полемики, с указанием соответствующих источников, будут затронуты в разделах, связанных с творчеством её участников. Очень любопытны в этом отношении те воспоминания о весьма симпатичной в её глазах личности Л.И. Шестова, которые оставила активная участница “ренессанса” Евгения Герцык (1878-1944) (см. альманах “Наше наследие”, вып. II, 1989 г.). Например, эпизод от 1912 года. Место действия – Швейцария, Женева (замечу, что ещё задолго до “изгнания” в 1921 году, весь период с 1896 до 1914 гг., Шестов жил заграницей, лишь “наведываясь” время от времени в Россию). Конкретная дата: утро православной Пасхи. Е.К. Герцык заходит к Шестову – и тот предлагает посвятить этот день прогулке по местам, связанным с пребыванием здесь... Вольтера! Воистину, ярчайшая демонстрация полного “двуединства” в отношении Шестова к обряду и духу Православия. Особое место занимает здесь книга Н.Г. Дебольского “О высшем благе” (1886) и ряд статей, написанных им же в начале ХХ века. Для более полного знакомства с социально-философскими воззрениями этого мыслителя (о собственно метафизических взглядах которого речь ещё пойдет ниже) отсылаю читателя к своим статьям в журналах “Русское самосознание” (N2, 1995) и “Молодая гвардия” (N11, 1996). Скажем прямо – после Второй мировой войны (когда и появилась на свет книга Зеньковского) включать представителей известного этноса в число “корифеев” национальной культуры чуть ли не всех стран Европы стало фактически условием sine qua non для “широкого признания” любого культурно-исторического исследования. Ввиду недавней кончины этого известного специалиста по немецкой классической философии я свел к необходимому минимуму полемику с его книгой “Русская идея и её творцы” (М., 1995) – которая, впрочем, и не добавляет ничего нового к обсуждаемой схеме. Где-то год-другой назад я встретил на прилавке одного книжного магазина сразу пять различных изданий, включавших книгу Е.Н. Трубецкого (1863-1920) “Смысл жизни” (к слову сказать, далеко не лучшее произведение данного мыслителя). С другой стороны, даже традиционно юбилейные даты, связанные с именами Петра Астафьева, Николая Дебольского, Николая Страхова и т.д., пришедшиеся на последние годы, не были отмечены появлением хотя бы одной из их книг. Почему вопрос о “смысле существования” России (даже “поставленный ребром”) никак нельзя считать достаточным признаком зарождения “философски-научного” мышления, мы выясним уже в ближайших параграфах данной главы. А сейчас заметим только, что именно заявления такого рода заставляют некоторых мыслящих (но недостаточно осведомленных) людей видеть в русской философии некое сугубо провинциальное явление. Действительно, многие ли из нас стали бы тратить время на чтение Декарта, Локка или Лейбница, если бы их “философски-научное” значение сводилось к размышлениям о “смысле существования” Франции, Англии или даже “Священной Римской Империи Германской Нации”? О том, что ядро федоровского “проекта воскрешения отцов” составляет полное непонимание как смысла смерти, так и смысла Искупления, мы будем говорить в главах, посвященных творчеству Н.Н. Страхова и В.И. Несмелова. Мнимой особенно в случае С.Н. Трубецкого (1862-1905), мыслителя, который постепенно перешёл на позицию метафизического персонализма, созвучного подлинным классикам русской философии и в корне чуждого В.С. Соловьеву (см. ниже анализ замечательной работы Сергея Трубецкого “Вера в бессмертие”, написанной им в последние годы жизни). Характеристику господствующей “историографии” именно как “искусственной системы” (в смысле, который придавал этому термину Н.Я. Данилевский) мне подсказал современный петербургский философ Б.Г. Адрианов. Характерно, что в главах, посвящённых русской мысли 20-30-х годов ХIХ века, Зеньковский говорит, как и положено, о “ранних шеллингианцах”. Но если были “ранние”, то куда делись “поздние”? На деле в центре творчества этих “русских гегельянцев”, как мы вскоре убедимся, стоял принцип самодостоверности личного духа, принцип, который куда логичнее связывать с Декартом (и даже с Августином), чем с Гегелем. По сути, вокруг этого принципа шла (и продолжает идти) главная борьба между подлинно христианской философией и различными формами её отрицания или подмены. То, что до сего дня не переиздано ни одной работы этого замечательного мыслителя (формально – “либерала” и “западника”), объясняется не только его отношением к “неприкасаемой” фигуре Вл. Соловьёва. Для нынешних цензоров Б.Н. Чичерин столь же неприятен и тем, что в своих трудах по философии и теории права он постоянно подчёркивал неразрывную связь личности и нации (неслучайно на труды Чичерина постоянно ссылался один из теоретиков русского национализма Л.А. Тихомиров (1852-1923)). Один пример из наших дней: переиздание “Этики” Спинозы (СПб., 1992) с возражениями Соловьёва на статью Введенского “Об атеизме в философии Спинозы”, но, натурально, без самой этой статьи. Добавим, что при этом игнорируются, естественно, и те принципиальные философские дискуссии, которые происходили в русской философии тех лет без всякого участия Соловьёва. Это, например, важнейшая дискуссия о проблеме познания чужой души, в которой участвовали А.И. Введенский, П.Е. Астафьев, Л.М. Лопатин, С.Н. Трубецкой. Сам факт и содержание этой дискуссии (о которой речь ещё пойдёт ниже) показывают, что русская философия осознала принципиальное значение вопроса о “другом Я” никак не позже (а на деле даже раньше), чем философия западно-европейская. Помимо соответствующих разделов данной книги, этот ключевой (как в гносео-, так и в онтологическом смысле) момент рассмотрен мною в работах, помещенных в сборники: “Введение в русскую философию” (М., 1995) и “Философский век. Лейбниц и Россия” (СПб., 1996). В последней работе показано также, насколько условен ярлык “лейбницианцев” в отношении Астафьева, Козлова, Лопатина и других русских метафизиков-персоналистов. Именно поэтому прошлое онтологически (а не просто хронологически) “первее” будущего – поскольку, как прекрасно сказал уже в ХХ веке выдающийся немецкий метафизик Отмар Шпанн (1878-1950), “Космос первее Хаоса”. Замечу, что лучшие имена европейской философии конца ХIХ – первой половины ХХ века сегодня тоже тщательно “забыты” на Западе (о чем мне уже приходилось писать в ряде статей, помещенных в журнале “Русское самосознание”). И дело здесь не только (и не столько) в политических “грехах” философов типа О. Шпанна. Подлинные таланты всегда и везде мешают местечковым “гениям”. Творческий в самом строгом смысле слова – см. ниже параграф “Память как творчество” (концепции В.А. Снегирёва и В.И. Несмелова). При этом талант Л.М. Лопатина как историка философии нашёл отражение в целом ряде превосходных курсов (назову, в качестве примера, “Лекции по истории Новой философии” – М., 1915 г.). Характерно, что именно лучшие историко-философские работы русских мыслителей (даже “Метафизика в древней Греции” С.Н. Трубецкого, при сравнительной благосклонности к нему со стороны нынешней “либеральной” цензуры) сегодня практически не переиздаются. Молодые умы питаются ( а точнее, отравляются) или второсортными работами западных авторов (пример – столь же известный, сколь и бездарный курс Б. Рассела) или творениями экс-советских “философов”, у которых ныне марксизм успешно братается с фрейдизмом, “феноменологией” и прочим.