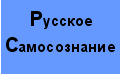Николай Мальчевский
Держащийся за полу
Маргиналии к “догматике” Карла Барта.
Вместо предисловия.
Итак, свершилось. На прилавках питерских “букшопов” появился перевод книги, автор которой величается в предисловии “одним из крупнейших протестантских теологов ХХ века”, “крупнейшим религиозным мыслителем нашего времени”, “классиком немецкой теологии ХХ века” и т.д. и т.п. Под прикрытием этого шквального огня дифирамбов издательство “Алетейя” преподносит потенциальным читателям небольшую книжку швейцарского (а не немецкого) теолога Карла Барта “Очерк догматики”. Как тут было не залезть в кошелёк и не выложить требуемый двадцатник за “крупнейшего из крупнейших”? Но меня подвигла на этот шаг и причина особого свойства. Дело в том, что ещё в середине 80-х годов я прочитал этот “классический труд”, а несколько позже откликнулся на него статьей, увидевшей свет в самиздатском журнале “Мост” (№ 4, 1989г.), который редактировал и издавал К.М. Бутырин (благодаря ему ещё с брежневских времён выходил и журнал “Обводный канал”, хорошо известный многим представителям тогдашней “второй культуры”). Что же побуждает меня перепечатать этот отклик сегодня, в журнале “Русское самосознание”? До сих пор наша редакция стремилась познакомить читателя с творчеством европейских мыслителей ХХ века, о которых нынешние “демократические” культуртрегеры хранят полное молчание (не говоря уж о переводе работ этих мыслителей на русский язык). Такое направление внимания на подлинные вершины европейской мысли останется для нашего журнала основным и в дальнейшем. Но время от времени полезно взглянуть и в сторону прямо противоположную. А то обстоятельство, что мой взгляд на К. Барта определился достаточно давно, имеет и свои преимущества – тогда надо мною ещё не так тяготел тот опыт встречи с носителями идеологии “в стиле Барта”, которым столь обильно одарило нас последнее десятилетие. И если мои суждения покажутся читателю слишком резкими, то вызвала их именно работа К. Барта, её “духовная суть”. Конечно, сегодня я многое выразил бы иначе, в свете той
традиции русской метафизики, которую в те годы я только начинал по-настоящему понимать. Но моя принципиальная оценка “крупнейшего религиозного мыслителя нашего времени” осталась по сути неизменной. Поэтому я счёл нужным внести лишь самые минимальные изменения (и сокращения) в свою статью десятилетней давности. Добавлю, что все цитаты из К. Барта даны в моём переводе по четвертому немецкоязычному изданию: Karl Barth “Dogmatik im Grundriss” Zu rich, 1983 (с указанием страниц этого издания в скобках после цитат). Я не пытался специально сравнивать свой перевод с переводом, вышедшим из недр “Алетейи” – но там, где явные (и достаточно важные) расхождения бросились мне в глаза, я оговариваю это в специальных сносках, помеченных 97-м годом.Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек у всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдём с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.
Захария, 8:23.
До того, как я впервые прочёл книгу швейцарского теолога, было уже нечто, что невольно к нему располагало: фонетический строй самого имени. Карл Барт – в этом мне слышалась какая-то чеканная простота и твердость; Карл Барт, осудивший аморфность “либерального протестантизма”, его уступки “духу ХIХ века”, и вернувшийся к бескомпромиссному языку апостола Павла и Лютера. В эпоху религиозной всеядности, замысловатых комбинаций из религий Востока и Запада – особую цену получает всякая попытка возврата к незамутненному источнику христианской веры. Смущало, правда, то, как он определял систему своих взглядов в целом: “диалектическая теология”. Но, в конце концов, древнегреческий глагол
dialegw означает “выбираю”, “отделяю”, “отличаю друг от друга”, – и можно было надеяться, что в лице К. Барта меня ожидает не очередное свидание с “диалектической” алхимией, превращающей истину в ложь, а ложь в истину, но долгожданная встреча с подлинной диалектикой, которая, прежде всего, разделяет то, что эпоха спутала и смешала.Однако всё это – из области воспоминаний. Встреча с К. Бартом произошла и произвела на меня столь неожиданное впечатление, что мне захотелось закрепить её наиболее яркие моменты на бумаге. Конечно, одно только моё личное впечатление (или ошеломление) от этой встречи не служит достаточным основанием для предания гласности того, что я прочёл, и того, что думаю о прочитанном. Дело обстоит несколько серьёзнее. “Очерк догматики” – книга из разряда тех, о которых можно смело сказать: если бы она не была написана, её следовало бы выдумать. Я не припомню книги, тем более философской и тем паче богословской, где бы так откровенно выразил себя “дух века сего”, который здесь бестрепетно вторгается в самое сердце глубочайшей тайны, даже и не думая совершить при этом какую-то “перемену ума”, забыть о своей злобе дня, вернуться к “вечному в человеке”. Карл Барт менее всего оказался (как я наивно предполагал) отстранённым от своего времени пилигримом, припавшим к чистому роднику Евангелия. Через его “догматику” в Евангелие ворвалась идеологическая улица ХХ века, с её накипевшими “вопросами”, – точнее, с самым крикливым из них, – и стала судить Евангелие своим безапелляционным судом. Итогом этого суда, чётко и недвусмысленно сформулированным Бартом, стал приговор Спасителю, точнее, утверждение того приговора, который когда-то был вынесен Ему синедрионом.
Можно, конечно, поставить под сомнение моё право делать столь категоричное заключение по одной книге Барта. Но подобное сомнение я считаю несерьёзным. “Очерк догматики” – не шалость юнца и не аберрация старческого мышления; да и может ли быть случайной и “нетипичной” для какого-либо писателя книга, в центре которой стоит Христос и Его дело? Даже поверхностная книга
– вроде “Жизни Иисуса” Э. Ренана – не случайна, ибо точно выражает ту меру глубины проникновения в христианство, на которую был способен данный автор; более того, такая книга очень часто передаёт основное религиозное настроение данной эпохи. Передаёт такое основное настроение – типичное уже для ХХ века – и “Очерк догматики”; передаёт откровенно, если не сказать: нагло.Но прежде
, чем переходить к книге К. Барта, нелишне познакомится с главными вехами его биографии, которые могут пролить дополнительный свет и на “Очерк догматики” 1 . Карл Барт родился в 1886 году в Базеле, в семье весьма консервативного по своим взглядам профессора богословия. После изучения богословских наук в Берне и в ряде германских университетов Барт – с 1911 по 1921 год – пастор в кантоне Ааргау. В этот период им было опубликовано знаменитое “Послание к Римлянам” (Der Ro merbrief), ознаменовавшее разрыв с тем направлением в протестантской теологии, главным представителем которого был Адольф Гарнак (1851-1936), известный русскому дореволюционному читателю по яркой книге “Сущность христианства” (на которую нам ещё предстоит ссылаться) 2 . В те же годы Барт вступил в партию швейцарских социал-демократов. В 1921 году он становится профессором “реформатского богословия” в Геттингене, а затем преподаёт в Мюнстере и Бонне. В этот период Барт разрабатывает, в кружке единомышленников (Э. Турнейзен и Ф. Гогартен), идеи “диалектической теологии”. 1932 год отмечен двумя событиями: вступлением Барта в ряды германских социал-демократов и появлением первого тома его “Церковной догматики”. После победы национал-социалистов на выборах и их прихода к власти К. Барт продолжает резкую полемику с “правым” протестантизмом, а на синоде в Бармене делает попытку создать объединение (Die Bekennende Kirche), способное противостоять “Движению немецких христиан”, вступившему в диалог с новым режимом (между прочим, видную роль в “Движении” стал играть Фридрих Гогартен). В 1935 году Барт отстраняется от преподавания ввиду отказа принести присягу на верность Адольфу Гитлеру, обязательную для государственных служащих. В том же году он получает приглашение в Базель и покидает Германию. В родной Швейцарии он продолжает активно выступать против “безбожного национал-социализма”, а в конце Второй мировой войны уже “тесно сотрудничает” с филиалом откровенно просоветского “Национального комитета Свободная Германия”. Весной 1946 года Барт посещает Бонн, где выступает с лекциями о “христианской догматике”, на основе которых и написана книга, о которой пойдёт речь. В следующем году Барт направляется в Дрезден, где “демонстративно” (по выражению составителя биографии) проводит много времени в обществе партийных функционеров и оккупационных властей Восточной зоны. От этого визита сохранилась любопытная фотография, приводимая в книге Требса: Барт, в явно весёлом расположении духа, стоя читает что-то по бумажке, а рядом с несколько кислой улыбкой сидит некто в штатском. Подпись под снимком гласит: “Швейцарский теолог и советский культур-офицер (!); Карл Барт в беседе со старшим лейтенантом Кочетовым из советской военной администрации”. И в дальнейшем внимание Барта постоянно обращено на “возлюбленную Богом Восточную зону”, как он выразился в одном из писем. Последний период жизни К. Барта (он умер в 1968 г.) наполнен работой над многотомной “Церковной догматикой”, а также “борьбой за мир и против западногерманского милитаризма”...Итак, “Очерк догматики” – не кабинетный труд; под таким названием были изданы лекции, прочитанные Бартом летом 46-го года “в полуразвалинах некогда столь внушительного замка курфюрста в Бонне” (с.5), для аудитории, состоявшей из студентов богословского и других факультетов. По своему характеру эти лекции
были ближе к проповеди, чем к академическому курсу: “Тот возврат в первобытное состояние, в котором я нашёл Германию, заставлял меня говорить, а не читать” (с.6). После краткого вступления, разъясняющего “задачи догматики”, Барт прослеживает пункт за пунктом т.н. “Апостольский символ веры” в редакции, принятой Западной церковью (с Filioque в восьмом параграфе) 3 . Вряд ли имеет смысл и нам отклоняться от этой естественной канвы бартовской “проповеди”, тем более, что даже его необязательные для развития главной идеи отступления бросают яркий свет на метод и содержание “диалектической теологии”.Барт начинает с определения “догматики как науки”. Собственно, речь идёт о двух определениях, ибо догматика заключает в себе и то, что “от человека”, и то, что “от Бога”, а привести эти два слагаемых к общему знаменателю Барт считает принципиально невозможным, проявляя уже здесь, на первых страницах, слепоту к религии Богочеловека
. Но об этом позже, а пока отметим, что в результате “методологические” соображения Барта постоянно осциллируют между релятивизмом и абсолютизмом в понимании догматики. С одной стороны, “никакое человеческое действие, в том числе и наука, не может претендовать на то, чтобы быть чем-то большим, чем попыткой”; также “попыткой является и христианская догматика, попыткой понимания и попыткой изложения” (с.9). “Абсолютная догматика” может быть только у ангелов, у нас же – только “земная и человеческая догматика”, которая навсегда “останется относительной и способной к ошибке” (с.11). Естественно, что тогда “нет никакого необходимого, абсолютно предписанного метода христианской догматики” (с.15).Но это лишь одна сторона медали, ибо на тех же страницах Барт не устает повторять, что догматика есть наука о том, “что мы должны думать и говорить”. Спрашивается: к какому же “долженствованию” может обязать нас наука, которой принципиально присущи относительность, отсутствие определённого метода и “способность к ошибке”? Барт указывает на то, что догматика как “наука о Слове, сказанном Богом”, содержит “основной документ”, или Св. Писание, от которого она и получает абсолютный характер, недоступный ей как “человеческому действию”. Но вряд ли такое указание снимает все вопросы, ибо догматика всё-таки не содержится в этом “документе” явно (иначе зачем были нужны Вселенские Соборы?), но извлекается из Писания всё тем же человеком, который якобы безнадежно релятивизирует всё, к чему прикасается. Правда, в какой-то момент может показаться, что Барт сознаёт тот единственный путь, который способен вывести из тупика. Он пишет: “тот, кто взялся за эту науку (то есть догматику – Н.М.), должен, изучает ли он или поучает, ответственно стать на почву христианской Церкви” (с.10). Слово сказано, но что за ним скрывается? Ниже мы увидим, что не скрывается практически ничего – ибо в дальнейшем Барт определит Церковь лишь как “общину”, составленную из тех, “кто знает о Слове и исповедует Его”. Таким образом, Церковь определяется у Барта через тех же самых индивидов, которые способны лишь на “попытку” догматического познания. В итоге мы снова возвращаемся к “основному документу” как фактору, который каким-то образом преодолевает релятивизм в догматике. Но ещё Лютер говорил о Писании как о “восковом носе”, которому можно придать любую форму и приделать к любому лицу
4 . И хотя Барт в конце первой лекции мимоходом замечает, что читать этот “документ” следует, “руководствуясь исповеданием” (то есть вероучением, или традицией), он тут же делает оговорку: “Св. Писание и традиция не стоят на одной плоскости”; авторитет традиции соотносится с авторитетом Писания как “авторитет земных родителей с авторитетом небесного Отца” (с.14).Но, скажет читатель, разве это не обычные издержки протестантского принижения роли Предания? Слишком заметно, однако, что заблуждение Барта, если и проистекает из того же источника, то получает более радикальные выражение. Он категорически подчеркивает относительность всех человеческих “попыток” постигнуть Слово – и столь же категорично требует от догматики общеобязательности: она учит нас, “что мы должны думать и говорить” о Христе-Спасителе. От подобных притязаний был совершенно свободен тот же А.Гарнак. “Правильное учение” о Христе, по его словам, способно лишь “извратить величие и простоту Евангелия
” 5 , заслонить живой образ Христа – и хотя с этим нельзя согласиться, здесь видна последовательность протестантского теолога, говорившего в той же работе: “Нет преддверия перед Его проповедью, через которое предварительно следовало бы пройти, ... мысли и обетования Евангелия – это начало и конец его; лицом к лицу с ним должна стать каждая душа” (там же, с.95). От этого “лицом к лицу с Евангелием”, столь характерного для протестантизма, мы не находим у К. Барта никакого следа – он вполне определенно требует догматического “преддверия” к Евангелию 6 . Заметим, что Гарнак, при всём своём скептицизме по отношению к догматическому вероучению (историческое значение которого он, несомненно, признавал), не считал, однако, что всё должно потонуть в плюрализме различных “точек зрения” на Евангелие. Но он полагался при этом именно на единство человеческой природы, сообразное с единством Св. Троицы. “Протестантизм рассчитывает на то, – писал он – что Евангелие (есть) нечто столь простое, божественное и потому истинно человеческое, что оно наилучшим образом может быть познано, если предоставить каждому свободу, и что оно вызовет в каждой душе в общем одни и те же чувства и убеждения” (там же, с.142).Подобная надежда (пусть наивная, но составляющая одну из привлекательных черт Реформации, по сравнению с попыткой католицизма оградить человека от Евангелия) совершенно чужда Барту – и тем не менее он почему-то твёрдо рассчитывает на обязательную для всех людей “догматику”! Было бы весьма интересно сопоставить “абсолютный релятивизм” (или “релятивный абсолютизм”?) Барта с рядом интеллектуальных построений ХХ века, лежащих совсем в других областях (например, в естествознании). Но мы избежим этого соблазна и пойдём дальше, рассчитывая, что последующие лекции рассеют возникшие с самого начала недоумения.
Собственно, три следующие параграфа книги и должны раскрыть основной характер отношения между “абсолютным” и “относительным” факторами в догматике, да и в христианстве вообще – характер отношения между Богом и человеком. Эти параграфы посвящены первому слову Символа Веры: “Верую”.
“Что есть вера?” – спрашивает Барт и отвечает: “Вера есть доверие, познание и исповедание”. Прежде всего, “верить значит доверять”. Но в христианской вере, подчеркивает Барт, решающее значение имеет не то обстоятельство, что мы веруем, о то, во что мы веруем, “предмет веры”. Мы не просто веруем, но “веруем в”, и Символ Веры молчит о субъективных условиях веры, но раскрывает именно содержание её предмета. “Не добрым было время”, многозначительно замечает Барт, когда стали спорить о вере самой по себе, об её психологии и т.п., а не о том, “во что следует верить”. И далее идёт афоризм, явно навеянный тогдашней философской модой борьбы с “психологизмом”, за “предметность” и “права объекта”: “ Кто хочет спасти и сохранить субъективное, тот его потеряет, но кто откажется от него ради объективного, тот его спасет” (с.17). Подобное транспонирование евангельских изречений является, конечно, делом вкуса; но всё-таки – каким же образом “спасается” субъект веры (а проще говоря – душа) в концепции Барта? Ведь всё, что он пишет по этому поводу, недвусмысленно указывает лишь на необходимость полностью элиминировать, устранить злополучного “субъекта” из анализа веры. Столь радикальный шаг оправдан, по мнению Барта, следующим обстоятельством: в человеке нет ничего, что каким бы то ни было образом сопрягалось бы с предметом веры – “напрасны будут наши усилия отыскать (в человеке – Н.М.) нечто, что хоть в каком-то смысле может быть названо предрасположением [eine Disposition] к Слову Божьему” (с.19).
Таков центральный “гносеологический” тезис Барта. Из него сразу следует, что вера имеет не метафизический, а сугубо фактический характер: она есть “встреча”, всецело определяемая тем, что Бог “захотел стать нашим Богом, Gott mit uns, Immanuel”. В самом человеке нет ничего, что было бы предчувствием, надеждой, потребностью, относящимися к этой “встрече”. Удивительным образом Барт не замечает, что подобное устранение “человеческого фактора” не осуществимо никаким усилием мысли, что такому устранению противится сам язык. Ведь по собственным словам Барта, человек узнаёт через эту встречу, что он не один (“Ich bin nicht allein”). Но в том-то и дело, что подобное “узнавание” было бы невозможно без предшествующего переживания самим человеком своего одиночества в мире, где он, казалось бы, никогда не бывает “один”. Именно ясное понимание этого заложенного в самой структуре человеческой души “предрасположения” к Богу и позволило подлинно христианскому писателю вложить в уста Спасителя проникновенные слова: “вы Меня не искали бы, если бы уже не нашли”.
В подтверждение своего тезиса о полной непричастности человека к “факту встречи” с Богом К. Барт приводит слова Лютера: “я верю, что не собственным разумом и не собственной силой могу верить в Господа Иисуса Христа или прийти к Нему”. Но разве из этих слов следует, что человек от природы слеп и глух к Богу? Протестантский теолог Эмиль Бруннер, чьё имя часто упоминается в одном ряду с именем Карла Барта, прямо указывал: чтобы понять возможность богопознания, необходимо предположить в человеке метафизическую потребность (die Not, нужду) в Боге; более того, предположить изначальное отношение человека к божественной Истине. Бруннер писал: “Изначальнее, чем пребывание-вне-Истины, нам принадлежит сама Истина [die Wahrheit selbst], иначе она не сможет произвести в нас такую потребность
” 7 . Всякая “фактическая встреча” Бога и человека должна быть укоренена в их сверхфактическом, то есть метафизическом единстве. Отвергая это, Барт явно обнаруживает, что его “диалектическая теология” – лишь очередная (на этот раз “религиозная”) версия крайнего позитивизма, и поэтому она искажает подлинные отношения Бога и человека куда глубже, чем “либеральная теология” в духе Гарнака и Шлейермахера (к последнему Барт, как и его кумир Кьеркегор, тоже питал глубокую враждебность).Но пусть “встреча” человека и Бога так или иначе состоялась; как же описывает Барт правильную, по его мнению, реакцию человека на эту “нечаянную встречу”? “Я возношу хвалу и благодарность ввиду того факта [angesichts der Tatsache], что я был призван, что Господь сделал
меня свободным для Себя самого. В это я верю” (с.20). Вот так раз! Да ведь это же почти дословно молитва фарисея, благодарившего Бога за то, что он “не такой, как другие”, мытари и грешники. Конечно, Барт не устает повторять, что вера дается “не по заслугам”, что встреча с Богом – это “подарок” и т.п. В жизни, однако, приходится постоянно замечать то, на первый взгляд странное, обстоятельство, что люди, достигшие чего-либо своим трудом, своим потом и кровью, куда более скромны в самооценке, чем получившие то же самое “в дар”, по необъяснимому благоволению Бога или судьбы. Именно в последнем случае – в случае пресловутой “богоизбранности” – худшим образом проявляется человеческая гордыня, эта противоположность трезвому сознанию своих реальных достоинств. Но о “богоизбранности” речь ещё впереди...Встреча с Богом, продолжает Барт, “происходит в Иисусе Христе как Слове Божьем...В нём встречает нас Бог”. Назвав имя Христа, Барт справедливо отмечает, что теперь “мы стоим в самом сердце тайны”. И было бы замечательно, если бы он проявил при этом ту осторожность суждений, которой требует именно настоящая тайна. Но безаппеляционность суждений Барта только нарастает, как и их – трудно выразиться иначе – узколобость. Словно и не ведая о том, что Христос, помимо всего, и Сын человеческий, Барт считает необходимость вылить на человека новый ушат помоев. Определив веру как “доверие к Слову”, он пытается даже это доверие отделить от человека какой-то китайской стеной, сообщая, что “мы никогда не бываем себе верны” и “наш человеческий путь как таковой есть путь от одной неверности к другой, и таков же путь богов этого мира” (с.21). Последняя “фигура речи” отвергает всякое достоинство в т.н. “языческом мире”; суть последнего, по Барту, именно в “неверности”, в “постоянном туда-сюда”. Имеет ли христианин право так оценивать мир, оставивший после себя столько примеров верности, нравственной твёрдости и духовного мужества? Примеров, которые известны каждому, кто помнит греческую трагедию, философию стоиков, историю Древнего Рима, этическое учение Бхагавадгиты, предания древних германцев. Или более прав протестантский теолог Герхард Эбелинг, замечая, что “было бы доктринерством, совершенно недостойным христианина, утверждать, что ничего истинного, доброго и честного нельзя найти нигде, кроме как в Библии, или что ничто истинное и честное не имело места за пределами христианства
” 8 ?Но и само христианство попадает у Барта, в заключение данного параграфа, в своеобразное положение. Христианин, говорит он, верит “вопреки всему, что противоречит Слову”. Но возвращаясь чуть ниже к этому тезису, он уже заявляет: “верят не из-за и не на основании, но пробуждаются к вере всему вопреки” (с.22), вовсе не оговаривая, что имеется в виду под “всем”. Поэтому правильный поначалу тезис приобретает, в результате подобного “разъяснения”, надрывно экзистенциалистский характер (в стиле Кьеркегора и прочих) – а Слово Божье, именно как подлинное основание веры, отходит на задний план. Более того, таким образом подготавливается почва для нигилизма, по сути антихристианского. Действительно, если ребенок растёт в семье, где слово “бог” употребляется только в междометиях, учится в школе, где религия “объясняется” человеческим невежеством, ходит по улицам, где храм, чаще всего, предстает как обшарпанная развалина – он может верить только всему этому вопреки. Но как быть, если и семья, и общество ставят целью воспитать в ребенке христианина? Какой смысл имеет тогда это нигилистически заостряемое “вопреки всему”? Может показаться, что здесь я придираюсь к не совсем точному (и только) выражению Барта. Но ниже мы увидим, что он действительно считает, что состояние общества, когда всё, связанное с именем Христа, предается поруганию и уничтожению – является “вполне безобидной вещью”! Куда страшнее, по мнению Барта, нечто
другое; но об этом “другом” – чуть позже.Второй момент, выражающий существо веры, звучит у Барта так: “верить значит познавать”. Он предостерегает, что призыв “презирать разум и науку” исходил от Мефистофеля; напротив, “Credo христианской веры покоится на познании... христианская вера не иррациональна, не антирациональна, не сверхрациональна, но – правильно понятая – рациональна” (с.26). Опять-таки, “недобрым было время”, когда разрывали Pistis и Gnosis, ибо “правильно понятая вера есть акт познания”. В связи со сказанным ранее всё это звучит несколько неожиданно и даже вселяет определенные надежды. Но быстро становится ясно, как же именно понимает Барт “рациональность” христианской веры. Прежде всего, предмет этой веры таков, “что его нельзя познать на основе способностей человеческого познания, но только на основе собственной свободы Бога, Его решения и акта”. Что касается собственно человеческого познания, то его предел – “некое высшее Бытие, некая абсолютная сущность... но эта абсолютная и высшая сущность ...не имеет к Богу никакого отношения” (с.26).
Подобное “правильное понимание” лишает тезис о “рациональности” веры всякого смысла. Рациональный – значит связанный со способностью познания, присущей человеку, с его ratio. Выкинуть ratio и оставить прилагательное “рациональный” – значит играть словами, и только. Поражает при этом удивительно примитивное представление Барта (преподававшего в крупнейших университетах) о соотношении божественного и человеческого в познании. Ведь как только Сократ и Платон всерьёз попытались продумать проблему познания, они пришли к выводу, что последняя инстанция всех правильных
понятий и суждений человеческого разума лежит в божественном Логосе. Логос не есть нечто внешнее и чуждое по отношению к ratio, но составляет именно его онтологическое основание, фундирует человеческий разум. Так понимал дело и бл. Августин, говоря: “Бог – умный свет, в котором, от которого и чрез которого сияет все, что сияет разумом”. То же говорит уже упомянутый Э. Бруннер: “В основе нашего логизирования [Logizein] лежит Логос, который не в нас имеет своё основание, но напротив, нас самих обосновывает и направляет”. Барт же не видит этой коренной связи человеческого разума и божественного Логоса, и потому отсекает всякое “естественное богопознание” как не имеющее к Богу “никакого отношения”. Однако утверждать, что в христианской вере божественный разум вытесняет разум человеческий – это чистой воды “гносеологическое монофизитство”, которое, к тому же, даже нельзя последовательно выдержать, если только не выдавать свои собственные суждения за божественные. Впрочем, понятно, почему Барт скорее готов представить себя неким механическим “оракулом” Слова, чем допустить какую-либо органическую и онтологическую связь между божественным Логосом и человеческим ratio. Бартом движет неукротимая вражда к христианской метафизике, соединившей евангельское Откровение с философским умозрением индоевропейских народов. Вражда – и сугубо позитивистский уровень мышления; чего стоят хотя бы рассуждения о том, что разум [Vernunft] и “этимологически” (sic!) и по существу есть то же, что и восприятие [Vernehmen]. Эти жалкие попытки использовать аргументы, напоминающие пародию на Гегеля и Хайдеггера, нужны Барту для достижения всё той же заветной цели – полного отстранения человека от всякого участия в “восприятии” Бога (какой бы абсурдной, внутренне противоречивой эта цель ни была). “Познание Бога является познанием, всецело [schlеchterdings] определенным его предметом, самим Богом”, человек же в этом познании “всегда остается бессильным” (с.27).Подводя итог гносеологическим изысканиям Барта, можно сказать, что его “рационализм” – лишь поза, и к тому же вопиюще неискренняя. Выражение “христианский рационализм” употребляется всуе там, где отрицается онтологическая связь Логоса и ratio, связь, заложенная а христианском понимании слов о человеке как образе и подобии Божием – слов, которые Барт в своих лекциях вообще нигде не упоминает. На место христианского учения об освобождающей Истине ставится ветхозаветное представление о “фактической” (читай – случайной, лишенной разумных оснований) встрече человека с Богом; встрече, в которой человек значит не больше, чем смоковница при дороге. Эта “встреча” именуется у Барта “озарением” – не слишком ли громкое слово, чтобы описать состояние,
где субъект озарения не имеет никакого значения, даже прямо должен исчезнуть в качестве субъекта? Ведь так можно рассуждать и об “озарении”, которое испытывает полено, брошенное в печку. Впрочем, полено все-таки поддерживает огонь – а человек у Барта “всегда остается бессильным”.Переходя к последнему определению веры (“верить – значит исповедовать”), Барт, в полном согласии с изложенной выше концепцией “встречи”, решительно подчеркивает “историчность” веры: “там, где верят в смысле христианского Credo, там совершается история” (с.31). Но если вспомнить, что, по Барту, “вера всецело определяется её предметом”, то “историчность” веры есть автоматически “историчность” Бога. И Барт, действительно, заявляет: “Сам Бог не сверхисторичен, а историчен”; “историчность” веры является именно “ответом на это историческое бытие, сущность и действие Бога”. Как говорится, добрались и до Бога – даже Его сущность оказывается “исторической”! И в этом есть своя неумолимая логика: настойчивое унижение всего человеческого рано или поздно переходит в оскорбление Бога, по образу Которого создан человек.
Для человека же, продолжает Барт, “историчность веры” означает переход “из сферы приватного... в публичное”; “где верят по-христиански, там возникает и растёт историческое образование [Gestalt]... сообщество, со-бытие, братство” (с.32-33). Там возникает обязанность “публичной ответственности” за своё познание и свою веру. Эта странноватая смесь религиозной фразеологии и социологического жаргона, как мы сейчас увидим, отнюдь не случайна и даже принципиальна для Барта. Исповедание веры, пишет он, может выражаться, во-первых, на языке Церкви (который Барт почему-то именует “языком Ханаана”); но не этому языку следует придавать решающее значение. Важнее то, что христианин обязан “переводить” язык Церкви на “язык времени”, обязан “говорить по-мирски [profan zu sagen]”. Без такового перевода, пугает Барт, Церковь становится “Церковью молчания”; хуже того, она, “как в Германии 33-го года”, может стать “Церковью молчащих собак”! Эта галиматья
расширила моё знакомство с немецкими идиомами (словарь приводит здесь русскую поговорку “не бойся собаки брехливой, а бойся собаки молчаливой”) – но осталось всё-таки не вполне ясно, кто собственно “молчал”: книг протестантских теологов в период национал-социализма было издано вряд ли меньше, чем за соответствующее время до и позже. Впрочем, с точки зрения Барта, “молчал”, по-видимому, каждый, кто не гавкал. В таком взгляде есть, вероятно, доля истины; только вот гавкать было, конечно, куда безопаснее с территории Швейцарии...Возвращаясь же к существу дела, что можно сказать по поводу бартовской концепции “исторической веры” и “исторического Бога”? Миф историзма был развенчан уже в начале ХХ века так основательно, что его реанимация в середине века выглядит почти комичной, особенно под “догматическим” соусом. Однако неверно считать, что в данном случае Барт просто возвращается на позиции “исторической школы”, тесно связанной со столь нелюбимым им “либеральным протестантизмом”. Здесь уместно вспомнить, как
известный русский философ Вл. Эрн в своей статье о цитированной выше книге Гарнака резко упрекал последнего за непонимание границ “исторического метода”, неспособного выявить центральную истину христианства, существенно метафизическую, трансцендентную всякой “истории” 9 . В защиту Гарнака можно сказать, однако, что он и не пытался это сделать; исторический метод служил ему для рассмотрения того в жизни и учении Христа, что действительно может быть названо историей. О Боговоплощении, Искуплении, Воскресении – то есть обо всём том, что принципиально несводимо к “истории”, – Гарнак попросту не говорил (по крайней мере, не утверждал ничего категорически), предоставляя читателю самому определить своё отношение к метафизическому содержанию христианства. Не то у Барта. “Сверхисторическое” не просто выносится за скобки; оно отрицается; “история”, как пустая воронка, затягивает в себя всё содержание догматики. Но это, как предстоит убедиться, вовсе не обогащает самой истории, реальной истории человеческого рода. Та “история”, о которой с таким апломбом говорит Барт – это “история особого рода”; это – помещённая под пуленепробиваемый колпак догматики “священная история богоизбранного народа”, и его одного; “история”, к которой не имеют “никакого отношения” религиозно-метафизические искания всех других народов.Что касается требования, чтобы Церковь говорила “языком времени”, то ведь тогда нужно и разъяснить, что это за язык? Какое из множества наречий, на которых говорят люди, соединенные национальностью, общим трудом, политической системой, научными и философскими школами, – больше всего соответствует “языку времени”? Не должна ли именно поэтому Церковь говорить на своём языке, а не усваивать тот или иной жаргон эпохи? Язык веры, даже в большей степени, чем язык философии, выделяет вечное в языке каждого народа. Такой язык не нуждается в переводе на язык партийно-политических пристрастий, чтобы быть понятным народу.
Объяснив, какое содержание следует вкладывать в христианское понятие веры, Барт переходит к главному – к “предмету веры”. Христианский Бог, ещё раз напоминает Барт, не имеет ничего общего ни с какой другой “идеей Бога”. Он не имеет никакого отношения к “естественному богопознанию”, к “всеобщему понятию о божестве” и прочим языческим иллюзиям. Нельзя не заметить, что здесь Барт прямо сходится с утверждением “научного атеизма” об изначальной атеистичности человека, ибо отрицает не только положительное значение всей религиозной жизни “за пределами Писания”; в этой жизни он не признает даже отрицательного момента тоски по истинному Богу. Последний не есть, по Барту, “исполнение того, что человек искал... даже в смысле наилучшего и наивысшего исполнения”. Напротив, встреча с Богом – это встреча с тем, чего человек “никогда не искал и лишь теперь нашёл” (с.41). Исковеркав слова, о которых мы уже имели случай вспомнить, Барт даже не высказал новый, пусть не очень удачный, афоризм – он просто изрек нечто невразумительное
.О Боге, продолжает втирать Барт, “нельзя спекулировать”. Его надо “искать (так всё-таки искать? – Н.М.) только в книгах Ветхого и Нового Завета”, в Библии; а это “не философская, но историческая книга”, “книга о великих делах Бога, по которым Он познается” (с.43). Следует ли это понимать так, что в Библии зафиксированы все “дела” Бога, а то, о чём там не говорится, не имеет к Богу, опять-таки, “никакого отношения”? Именно так, заверяет Барт. О каких же “делах” идёт речь? По Барту, их три: 1. Творение; 2. Союз, в силу которого Бог стал “Богом маленького презираемого народа в передней Азии, Богом Израиля”;
3. Спасение, которое “одновременно было целью истории израильского народа”. Пустяковое сомнение – неужели все остальные народы жили вне всякого общения с Богом? – Барт не считает нужным даже упомянуть. Да этот вопрос и не имеет смысла, ибо Бог, по Барту, есть “Бог свободной любви”. В первый момент даже не приходит в голову придираться к этому, прямо скажем, не слишком удачному, выражению. Но жутковатый юмор “диалектической теологии” в том и состоит, что Барт придает словосочетанию “свободная любовь” тот же смысл, что и авторы книг о предметах другого рода: кого хочу, того и люблю. То, что Бог сосредоточил всю свою любовь на одном-единственном “предмете”, предоставив всем остальным народам тысячелетиями бесплодно “искать Бога в какой-то бесконечности”, представляется Барту вполне нормальным: такова “свободная любовь”.Последний аккорд этого параграфа книги, если и не относится прямо к её основному содержанию, сам по себе знаменателен (и занимателен). Напоминая, что, наряду с заповедью “не поклоняться другим Богам”, Иегова дал евреям заповедь не ставить Ему изображений, Барт спешит выразить полное согласие и с этим императивом “свободной любви”, решительно порицая “благонамеренный спектакль христианского искусства, благонамеренный, но бессильный” (с.46). Так, вместе с “естественным богосознанием” (то есть религией как общечеловеческим достоянием), вместе со “спекуляциями о Боге” (то есть религиозной метафизикой), за бортом оказывается и христианское искусство...
Какие бы приватные изгибы личности самого Карла Барта не отражало это подчеркнутое отвращение ко всему естественному
, творческому и метафизическому в бытии человека – оно логически связано с принципом радикальной историзации: но не религии как таковой (это не ахти как ново), а уже самого Бога, на что не решались даже самые “либеральные” протестантские теологи, предпочитавшие, утратив настоящую веру, честно переходить в ряды атеистов или, ещё чаще, агностиков. Но то было с людьми, воспитанными в духе XIX века, который, при всех своих недостатках, ещё ценил элементарную порядочность. В лице Карла Барта мы встречаем уже “наш” ХХ век, с его особой, дотоле неведомой мерой “добра и зла”. Какой именно – становится всё понятнее, хотя ещё и не сказано Бартом вполне откровенно.Разъяснив, в общих чертах, характер своей “догматики”, Барт переходит к основному догмату христианства – догмату троичности. Можно заранее предположить, что мыслитель, отвергающий всё “спекулятивное” в христианстве, не сможет сказать здесь практически ничего, ибо христианскую Троицу и “исторического Бога” разделяет метафизическая пропасть. И действительно, Барт говорит в этом параграфе, в основном, нечто предельно тривиальное; но ухитряется, по своему обыкновению, увязать тривиальное – с ложным
.Итак, прежде всего, мы узнаем, что Бог – “один в трёх способах бытия”, или “на языке древней Церкви – один в трёх лицах [Personen]”. Не буду даже комментировать это убогое “понимание” ипостасного характера Троицы; достаточно заметить, что абсолютно неподходящее выражение “способы бытия” [Weisen des Seins] явно кажется Барту более глубокомысленным, чем “язык древней Церкви”. Пойдём дальше. Троичность не означает, предупреждает Барт, что речь идёт о трёх различных Богах. Предупреждение, возможно, и не лишнее; во всяком случае, сам Барт полагает, что этого не понимали... великие художники христианской эпохи: “все они (!) изображали трёх человечков(!!), marmousets” (с.48). За этим перлом, наглядно демонстрирующим уровень бартовской “эстетики”, следует разъяснение уже другого рода. Цитируя “апостольский Символ Веры” с добавлением многострадального Filioque (Spiritus qui procedit a Patre Filioque), Барт небрежно бросает с головокружительных высот своей “теологии” следующую фразу: “это (необходимость Filioque – Н.М.) то, чего никогда не могли вполне понять бедные люди [die arme Leute] Восточной Церкви”
10 . И это тоже не нуждается в комментарии. Замечу только, что известный русский философ Л.П. Карсавин (отнюдь не враждебный Западной церкви, а скорее питавший к ней чрезмерное почтение) однажды проронил: “Религиозность Filioque... искони тяготеет к дохристианской религиозности, в частности – к иудаизму, к Ветхому Завету и библейскому языку, что прослеживается вплоть до стиля социал-демократической прессы” 11 . Псевдодогматика Барта, да и его биография в целом – наглядная иллюстрация к этим словам.Остаётся добавить, что Св. Дух для Барта автоматически теряет равный бытийственный статус по отношению к Отцу и Сыну; Св. Дух – это уже, собственно, не ипостась, а только отношение двух “настоящих” ипостасей, “узы любви, соединяющей Отца и Сына”. Другими словами, Filioque превращает Троицу в “двоицу”; протестант Барт берёт у католиков, со свойственным ему “безошибочным вкусом”, именно самое худшее, прокладывая уже здесь путь назад, к иудейскому монотеизму.
Дав характеристику догмата троичности в целом, Барт переходит к тому определению, которое Символ Веры дает Богу-Отцу: “Вседержитель, Творец неба и земли, видим же всех и невидим”. Что означает “вседержание”, или всесилие [Allmacht] Бога
12 ? Бог, утверждает Барт, есть возможность действительности; Его сила – это “возможность с видами на действительность”. Поскольку ранее Барт отверг всякие “спекуляции” по поводу Бога, нет смысла спорить с его спекулятивной (не в лучшем смысле этого слова) диалектикой “возможного” и “действительного”. Достаточно заметить, что Барт явно хочет избежать основного для христианской метафизики тезиса: Бог есть бытие бытия, или “действительность действительности”. Ведь для Барта нет никакой действительности, кроме одной – той “исторической” действительности, которая отражена в Писании, и потому категорию трансцендентности он подменяет категорией “возможности”; хотя ещё Платон и Аристотель поняли, что всякая возможность сама должна быть укоренена в чём-то действительном: бытие in potentia вторично по отношению к бытию in actu. Но что за дело нашему корифею “диалектической теологии” до этих умствований! Он утверждает со своим обычным апломбом: “Кто представляет Бога в некой отдельности [Abseitigkeit], в величайшем отдалении (от мира – Н.М.), тот имеет в виду не Его, а существо, в основе своей слабое”(с.53). Слова Евангелия о “Царстве не от мира сего” Барту на ум не приходят – ему нужен ветхозаветный Бог, который, конечно, не позволит себе выглядеть “слабым” в глазах сего мира!Правда, такой бог наделён слишком многими чертами, которые необходимо ретушировать. Прежде всего, из Ветхого Завета Иегова предстаёт богом произвола, богом, гнев и милость которого в равной мере лишены нравственного основания. Барт пишет: “Бог не тот, кто может всё, но тот, кто может то, что он хочет”. Однако чистое хотение как последнее основание воли и есть произвол, притом слепой произвол. Разбираться в подобных тонкостях, как какой-нибудь Кант или Шопенгауэр, Барт, естественно, не собирается – а вместо этого вспоминает... Гитлера, который “любил ссылаться на Бога”. С Гитлером ему выяснять отношения, конечно, проще, и Барт торжественно заявляет, что “сила (власть) ради силы (власти)” – это “зло, хаос, сатана, tohu wabohu”. В Св. Писании, заверяет Барт, власть “никогда не отделяется от
понятия права”. Впрочем, носителей ветхозаветного “правосознания” (которых было бы весьма поучительно противопоставить злодею Гитлеру) Барт назвать не пробует – и даже благоразумно уходить от этой скользкой темы. Последним основанием власти Бога, сообщает Барт, является любовь; Бог устанавливает “власть порядка Своей любви”. Так мы благополучно приходим в гавань католической концепции ordo amoris, много раньше Барта выразительно изложенной Максом Шелером (Барт об этом, естественно, не упоминает). Но суть даже не в этом прозаическом плагиате. Ведь в отличие от концепции Шелера, где есть место идее трансцендентности, идее “иного мира”, бартовская “догматика” должна объяснить: где же царит этот “порядок любви”? Ведь, конечно, не в этом мире и не в этой истории: здесь добрый погибает никак не реже злого, а своевременная эмиграция дает шансы, которых не сулит смелое противостояние злу. Но поскольку Барт не может допустить никакой трансцендентной этому миру (и его истории) реальности, ему остается только угостить своих слушателей прозрачным намёком на то, что “порядок любви” выразился... в победе “союзников” над “странами оси”! А что? Если Бог – “исторический”, то и победы Его должны быть “историческими”...Теперь нам предстоит выяснить догматический смысл представления о Боге-Творце (ещё раз напомню, что Барт предлагает нам не вольное богословское размышление, а то, что следует думать и говорить о Боге). Поведанное о Творении в Книге Бытия, подчёркивает Барт, принципиально отличается от “языческих мифов”; библейская история Творения – это не миф, а “сказание” [die Sage]. Ну, сказание так сказание; спор на сей счёт имеет сугубо платонический характер, ибо чуть ниже Барт заявляет: “Мир ничего не говорит о Боге-Творце” (с.60). Вот так, по-простому: ничего! В пользу этого очередного “ничего” наш автор приводит сокрушительный довод: сомнение человека в реальности мира как “покрывала Майи” и т.д. Если бы Бог (считает Барт) хоть как-нибудь открывался в своём творении, такое сомнение было бы невозможно. Поистине, не устаешь
дивиться нашему “профессору теологии”! Оказывается, что тупое доверие к эмпирическому миру явилось бы “доказательством” бытия Бога – а способность человека угадывать подлинную реальность, скрытую в глубине, это бытие “отрицает”! Здесь особенно ясно видишь коренной дефект ума Карла Барта; печально, однако, не это, а то, что он возводит свой дефект в догматический принцип.Но продолжим. Зачем же, спрашивает Барт, создал Бог мир и человека? Ведь “Богу мы не нужны, Ему не нужны ни небо, ни земля”; тем не менее, Он их создает, хотя мир ничем не заслужил своё сотворение. Ответ прост: “Творение есть благодать” – что в данном контексте следует, по-видимому, понимать так: то есть снова акт произвола, или “свободной любви”.
Я вовсе не ставлю перед собой цель: оспаривать каждый пункт бартовской “догматики”. Но всё-таки – можно ли согласиться с тем, что “Богу мы не нужны”? Несомненно, что в религиозном, а тем более в христианском сознании присутствует и совсем другое переживание – переживание того, что мы бесконечно нужны Богу. Один из величайших христианских поэтов-мистиков Ангелус Силезий говорил об этом так:
Я знаю – без меня и мига Бог не проживет.
Исчезни я – Он от нужды немедленно умрёт.
Пусть это другая крайность; но в этих “не нужны совсем” и “нужны непременно” – два реальных психологических полюса веры, и не имеет смысла придавать одному из них догматическое значение. Впрочем, ведь для Барта нет и не должно быть никакой психологии – а в итоге психология вовсе не исчезает, а просто превращается в “догматику”. И притом крайне убогую. Действительно, если мы “не нужны” Богу, то в чём тогда “цель Творения”? – спрашивает Барт. И отвечает: она – в прославлении Бога; мир – это “theatrum gloriae Dei” (с.67). Не ясно, во-первых, как мир, который “ничего не говорит” о Боге, может быть “ареной славы Божьей”. А во-вторых, подобное понимание цели Творения, уместное в устах раннехристианских апологетов, вразумлявших любителей цирковых и театральных представлений на понятном им языке, звучит сегодня, как пустая риторика.
Теперь нужно выяснить, что же такое “небо и земля”, те “видимые и невидимые”, которых сотворил Бог. Но сначала Барт считает нужным (очевидно, с учетом своей аудитории) отпустить очередной сарказм в адрес немцев: “слово миросозерцание, как и слово блитцкриг, существует только в немецком языке”. После этого изречения, достойного “фельдфебеля в Вольтерах”, Барт наглядно демонстрирует, что тонкости всяких там “миросозерцаний” ему нипочём. “Земля” – это “понятное”, “небо” – “непонятное”, рубит с плеча наш “диалектический теолог”. Однако “небесную действительность” ни в коем случае нельзя почитать как Бога. Впрочем, что же входит в состав “неба”, Барт не говорит вовсе; он только спешит отвергнуть связь “неба” с “духовными началами” и прочими выдумками индоевропейской метафизики. “Всё, что лежит в области наших человеческих, в том числе и духовных, способностей, является, согласно христианскому исповеданию, землею” (с.72). Занимательно, как Барт переворачивает в буквальном смысле с ног на голову естественное представление человечества о раскладе “небесного” и “земного”. Испокон веков небо было связано именно с принципом понимания, духовной ясности: от учения о “музыке сфер” у Пифагора до “мировой гармонии” Кеплера. И глубоко символично, что первой совершенной (или классической) теорией физики стала именно “небесная механика” Ньютона. Напротив, именно с землей человек (по крайней мере, индоевропеец) связывал представление о “непонятном”; ей были посвящены таинства и мистерии, подобные элевсинским. Пусть это язычество. Но уж конечно не “христианское исповедание” вдохновило Барта на то, чтобы объявить дух – “землёю”. Подобное “приземление” мы находим в Ветхом Завете, в его последней мудрости: “из земли ты вышел и в землю вернёшься”, “одна участь человеку и скотам” и прочее. Барт, правда, уточняет: человек – “пограничная тварь”, он “над землёю, но под небом”. Но это, на деле, лишь дань философской моде, на сей раз – на “пограничные ситуации”. Ведь несколько раньше Барт уверяет, что его “небо” не имеет никакого отношения (опять!) к “небесной тверди” и т.п. Но тогда какой смысл в разговорах о “над” и “под”? Порой кажется, что Барт элементарного заговаривается. Но в любом случае его “картина мира” – свидетельство слепоты и к полной великих тайн Земле, и к потрясающей ясности Небес.
Мы подошли, наконец, к кульминационному пункту бартовской “догматики” – к его учению о Боге-Сыне. Предполагают, говорит Барт, что первоначально Символ Веры состоял из трёх слов: “Господь (есть) Иисус Христос”. Поэтому “второй параграф (Символа – Н.М.) и христология являются пробным камнем всякого богопознания в христианском смысле... Скажи мне, какова твоя христология, и я скажу, кто ты” (с.76).
Дойдя до этого места, я подумал: ну наконец-то Барт сказал нечто глубоко верное и глубоко серьёзное! Моя радость оказалось, однако, поспешной. Но прежде чем говорить о “христологии” К. Барта, отмечу один момент, который всегда располагал к протестантизму даже людей сугубо православных. В уже упомянутом критическом отзыве Вл. Эрна на книгу Гарнака отмечается, что при всех своих недостатках она ценна вниманием к тем конкретным деталям жизни Спасителя, к тем чертам Его личности, которые для верующего человека порою бывают в каком-то смысле дороже отвлеченных принципов. Это замечено очень точно, и в этом заключается, быть может, главное оправдание религиозного настроения XIX века. У Гарнака и многих других представителей “исторической школы”, среди поверхностных, часто заведомо ложных суждений, встречаются, как драгоценные крупицы, свидетельства подлинного внимания к живому индивидуальному облику Христа. И вот, приходится сказать: свидетельств такого рода бесполезно искать в книге Барта, хотя там много общих тезисов о том, что Христос есть “кульминация истории”, что Он – “Слово деяния и Деяние слова” и т.п. и т.д. Только одна “деталь” неожиданно оживляет эти общие фразы: ссылка... на известную сочинительницу детективных романов Дороти Сэйерс, которая баловалась и “теологией”. Эта почтенная дама представила ситуацию, которая, по мнению Барта, позволяет “прекрасно почувствовать историчность Христа”. О какой же ситуации идёт речь? Представьте, говорит миссис Сэйерз, что сообщение о боговоплощении появилось в газетах – какая это была бы сенсация, “превосходящая все остальные” (с.79)! “Профессору гомилетики” Карлу Барту сей “мысленный эксперимент” кажется очень удачным – ещё одно доказательство его тонкого вкуса...
После такой преамбулы Барт начинает разбег перед решающим прыжком. Имя Христа, сообщает он, означает “Бог (Ягве) поможет”; прозвание Христос – означает “помазанник”, мессия. Имя и прозвание нельзя разделить, как нельзя разделить Иисуса Христа и Израиль. Варьируя эту мысль на все лады, Барт то корит христианство, что оно “стало похоже на полет воздушного шара”, оторвавшись от истории Израиля, то прямо угрожает: “Если христианин решит, что Церковь и синагога никак не связаны, то всё пропало”; это “отомстит за себя именно христианской общине” (с.86). Вслед за этим тонким намеком на толстые обстоятельства Барт снова обращается к авторитетным фигурам – пересказав анекдот о разговоре Фридриха Великого со своим лейб-медиком: “Циммерман, можете ли Вы указать мне на какое-либо доказательство бытия Бога? – Да, Ваше Величество: евреи!”. На всякий случай отмечу: тон Барта остается серьёзным, ему и в голову не приходит говорить подобную ахинею хотя бы cum grano salis. Остроумный Циммерман для Барта – авторитет куда более серьёзный, чем какой-нибудь Ансельм Кентерберийский. Тот, кто хочет иметь перед глазами “неоспоримое доказательство бытия Бога”, “должен держаться за евреев” (с.88). И на всякий случай Барт поясняет, что речь идёт не только о евреях из ветхозаветных анналов – но и о “сегодняших [bis auf diesen Tag]. И уже не размениваясь по мелочам: “Проблема Израиля” – это “проблема бытия вообще” (с.89). Бедное “бытие вообще”...
После такой артподготовки можно пройтись и по “антисемитам”. “Нападки на евреев – сообщает Барт – означают... нападки на Откровение”, и всякий народ, “сам себя избравший”, необходимо приходит в столкновение с “народом, избранным Богом”. Гитлер был прав, восклицает Барт, выдвигая лозунг “Враг – это еврей [der Feind ist der Jude
]” 13 , ибо еврей – действительно враг “безбожного национал-социализма”. Но внимание: раз уж речь зашла о “безбожии”, надо избежать недоразумений с одним из “союзников”. И Барт спешит уточнить: “Антисемитизм – это форма безбожия, по сравнению с которой то, что обычно называется атеизмом, вроде известного нам в России, является вполне безобидной вещью” (с.90). Как тут было не улыбнуться “культур-офицеру” в штатском...Отведя душу, Барт несколько притормаживает. Он готов даже признать, что еврейский народ “оказался недостоин своего призвания”. Но “где неверен человек, там верен Бог”, и Он “никогда не прекращал вести на поводке любви [an Seilen der Liebe] этот народ, который вёл себя по отношению
к нему, как шлюха [wie eine Dirne]” (с.92) 14 . Что тут сказать? Несмотря на перл касательно “шлюхи” Барт явно поощряет евреев требовать к себе особого отношения и тем самым дает им худший из возможных советов. “Антисемитизм” (за которым стоят, как известно, весьма различные мотивы) объявляется самой опасной и даже чуть ли не единственной “формой безбожия”. Это, как и курьёзная рекомендация видеть в каждом встречном еврее “доказательство бытия Бога”, ещё раз демонстрирует удивительное совпадение (с точностью до знака) патологического юдофильства с патологическим юдофобством. Для последнего еврей точно так же есть “доказательство бытия сатаны” – и уже неважно, что этот конкретный еврей из себя представляет.Впрочем, все отмеченные озарения Барта – только цветочки. К главному мы только подошли. Рассматриваемый сейчас параграф книги Барта называется “Спаситель и раб Божий”. Однако имя Христа, после начальной этимологической справки, в дальнейшем упоминается крайне редко; речь идёт почти исключительно об Израиле. И лишь в конце главы Барт произносит фразу, которая является ключевой в его “христологии”: “Этот на кресте висящий Иисус – кто Он такой, как не снова всё тот же Израиль с его грехом и безбожием” (с.93). Уяснить эту фразу до конца значит уяснить суть бартовской “догматики”.
Барт, однако, не сразу переходит к этой сути, но некоторое время рассуждает о Боговоплощении, а также о “непорочном зачатии”, заявляя, среди прочего, что христианство дало свой ответ на “женский вопрос”, поставив выше всех других людей женщину “именно как девственницу, virgo” (с.116). Это снова плагиат у католиков, и снова взято далеко не лучшее: культ “девы Марии”, далёкий от почитания женщины-матери; неслучайно Барт бормочет здесь нечто невразумительное о том, что “отношение” Христа и Богоматери – не онтологическое (то есть не бытийственное), а только гносеологическое, или “ноэтическое” (читай: идеальное, как и подобает относиться к “деве”). Бегло затрагивает Барт и земную жизнь Христа, сообщая – на этот раз в согласии с истиной, – что Христос был “преследуемым и чужим” среди людей; народ Израиля ответил на проповедь Христа “исполненным ненависти Нет!”. Но Барт не выделяет в этом отношении евреев, ибо “в лице Пилата и весь языческий мир... принял участие в бунте против Бога” (с.123). О Пилате, впрочем, речь пойдёт специально. А пока заметим: Барт, конечно, прав, говоря, что “мы должны узнать себя” в этом бунте, иначе “всякое сознание и признание вины будет тщетным”. Но он лицемерит в точном смысле слова, когда хочет поставить евреев в особое положительное отношение к Христу и не признает их особое отрицательное отношение к Нему. Тут не помогает никакая казуистика и ссылки на Пилата: если евреи действительно особым образом связаны с Христом, то и разрыв их – тоже особый.
Как бы чувствуя это, Барт и совершает свой главный “богословский” кунштюк. Уже чуть выше он сообщал, что Христос “страдал всю жизнь”, ибо “телом и душой в течение всей своей жизни на земле, а особенно к её концу, Он переносил гнев Божий против всего человеческого рода” (с.11
9). Теперь же он говорит вполне определённо: Христос заслужил своё страдание, ибо “быть человеком значит заслужить гнев Божий”. Спаситель, в глазах Барта, “заслужил” не только страдание, но и Свою смерть – а осудившие Его фарисеи сделали это не только “по воле Божьей”, но поступили именно правильно, ибо весь смысл жизни Христа на земле: “самому быть тотальной виной и тотальным грехом”. А чтобы у слушателей и читателей не оставалось никаких сомнений, верно ли они поняли нашего “богослова”, он забивает последний гвоздь в тело Распятого: “Здесь грешит и виновен сам Бог” (с.126).Нужны ли комментарии к этой издевательской “христологии”? Несколько похожие “парадоксы” излагал когда-то “в художественной форме” Леонид Андреев. Но ведь то беллетрист, не сочинявший “догматических” трудов. Автор же этих тошнотворных пассажей – “профессор гомилетики” и борец с “безбожным национал-социализмом” в придачу, хотя и Альфред Розенберг, назвавший Христа “еврейским мальчишкой”, не доходил до надругательства над Его смертью. И не
доходил, среди прочего, потому, что интересовался не только “еврейским вопросом”, имел духовные ориентиры и иного порядка. Барт же вторгается в самое сердце Евангелия исключительно с этим “вопросом”, и вся цель его “христологии”: превратить “обвинение” против евреев в их “оправдание”; превратить фарисеев, оклеветавших и убивших Христа, в исполнителей “юридической акции” (!), выразившей “гнев Божий и Его приговор”.Решающее слово сказано: фарисеи “справедливо” приговорили Христа к смерти, ибо исполняли “Божий приговор” тому, кто был “тотальным грехом”. Но теперь надо всё-таки найти, по доброй еврейской традиции, козла отпущения, на которого можно было бы списать все слишком явные “издержки” фарисейского суда над Спасителем.
Давно замечено любопытное обстоятельство: Понтий Пилат, ставший невольным пособником иудейских вождей в расправе над Иисусом, рисуется христианскими писателями, как правило, с сочувствием и даже со сдержанной симпатией (такой тон задали, по сути дела, ещё евангелисты). Напротив, все те, кто стремится “реабилитировать” фарисеев и первосвященников, никогда не распространяют свою амнистию на римского наместника. Барт не является исключением из этого правила: он обрушивает на Пилата потоки насмешек и ругательств, говорящих о какой-то личной ненависти к этому евангельскому персонажу. Как оценить присутствие Пилата в Символе Веры? – спрашивает Барт. И элегантно отвечает: “как собаки в гостиной”. Поэтому Барту вовсе не интересен разговор Христа и Пилата, оставшийся в памяти человечества как одно из самых напряженных, драматических мест Евангелия. Барт же спешит заверить, что роль Пилата в Евангелии – “чисто внешняя”, ибо “всё духовное разыгрывается между Израилем и Христом, в высоком Совете, который Его обвиняет” (с.127). Тут уж не знаешь, что уместнее: смеяться, плакать или (что всего надежней) поспешить в ванную, прикрыв рот платком... Глумливый розыск, учиненный Анной, Кайафой и их приспешниками – это, оказывается, “духовное”, а разговор Пилата и Христа, на который откликается даже душа неверующего – это “внешнее”. Оценка, достойная собеседника вертухаев, имевших немалый опыт работы в своих “высоких советах”.
Но идём дальше. Иудейские вожди были, как известно, одержимы ненавистью к Риму, и тем не менее, по известному понятию о средствах и цели, обвинили Христа перед римским наместником именно в том, что Он представляет угрозу Риму. Этот “ход конём” Барт предпочитает не обсуждать, но зато на нескольких страницах он на все лады обвиняет Пилата в том, что тот действовал по “политическому расчету”, а
не по “римскому праву”! Двойная бухгалтерия Барта в отношении евреев и “всех остальных” достигает здесь своего апогея. И снова, в качестве богословского авторитета, всплывает создательница лорда-детектива Питера Уимзи. А именно, с её помощью Барт устанавливает, почему вочеловечение так унижает божественную природу: потому что “среди людей есть такие, как этот Понтий Пилат”. Вот до каких глубин продумал наш “теолог” идею кенозиса!Но, пожалуй, хватит об этом. Конечно, рано или поздно, такое должно было произойти: вместо откровенной хулы на Христа духовный потомок фарисеев взялся сочинить свою собственную “христологию”. Здесь можно было бы и закончить рассмотрение бартовской “догматики” вообще, ибо главное сказано, и неслучайно последующие параграфы книги далеко уступают рассмотренным по определенности и выразительности. Но всё-таки наберёмся терпения и бросим беглый взгляд на заключительную часть этого труда.
Итак, какой же смысл имеет всё то, что “последовало за Распятием”? “Тайна Воплощения раскрывается в тайне Страстной Пятницы и Пасхи” – сообщает Барт, в кои-то веки сказав вдруг нечто верное. Но снова – только сказав. Бартовское “проникновение” в эту тайну – лишь вялый отзвук давно оставленной серьёзными богословами “теории обмана”. То, что “Бог принимает на Себя жалкую участь твари”, Барт так и характеризует – как некий “обмен или подмену [Taush oder Vertauschung]”: “Бог ставит себя на место человека, человек же ставится на место Бога”. А глупый Сатана не замечает этой “подмены” и попадает в ловко расставленную ловушку. Правда, совершенно неясно, причём тут вообще злополучный Сатана, если всё решалось “между Христом и Израилем”. Впрочем, разбираться в этой жалкой билиберде и нет смысла. Читать нечто подобное ныне уже как-то неловко; для контраста можно вспомнить те глубокие (пусть в чем-то и спорные) страницы, которые посвятил проблеме кенозиса М.М. Тареев, или исчерпывающую критику “теории обмена-обмана” (в её менее топорных, чем у Барта, вариантах), данную другим замечательным русским богословом В.И. Несмеловым. Правда, вспоминать настоящую религиозно-философскую мысль России и Европы в контексте разговора о “догматике” Барта – примерно то же, что и сравнивать Дороти Сэйерз с Шекспиром...
По существу же дела, Барт снова логически возвращается к тезису о том, что Распятие было “праведным судом” – ведь здесь единственный живой нерв его теологии. И неслучайно, после жалких диалектических упражнений на тему “уничижения” и “возвышения” Христа в процессе вышеназванной “подмены”, Барт снова повторяет: “Распятый
– значит отверженный... от союза с Богом”, приводя, как водится, и ветхозаветное “пророчество”: “Проклят умерший на кресте” (с.138).Нельзя не отметить ещё раз, что Барт вполне откровенен, по крайней мере, в этом краеугольном камне своей “догматики”. Тот, кто смотрит на Крест и на Распятие глазами иудея, как на зрелище “позора”, pudendus, но при этом хочет числиться “христианином” – тот, несомненно, нуждается в “христологии”, подобной бартовской.
В связи с проклятием “умершему на кресте” осмысливает Барт и то, что последовало за Распятием. Сошествие Христа в ад, которое всегда понималось в христианстве как акт, распространивший Спасение и на умерших грешников, Барт категорически истолковывает как сугубо “личное” событие для Христа. Иисус Христос сам попал в ад, как попадают туда все мёртвые, ибо “мёртвые не могут славить Бога”. Сошествие в ад – втирает Барт не слишком понятливым – это не акт милосердия, а именно “необходимость”, которой “подпал Христос”. Поистине, Карл Барт всецело усвоил психологию иудаизма, с точки зрения которой всякий мёртвый – нечист, а всё “угодное Богу” связано исключительно с этой земной жизнью, с её биологической витальностью
.Теперь несколько слов – о смысле искупления, которое, напоминает Барт, в переводе с древнегреческого означает буквально “освобождение за выкуп”. В результате искупления “человек был переведён в другое правовое состояние... был лишен своего юридического статуса грешника”. Впрочем, наряду с терминологией адвокатской конторы Барта привлекает и военно-полевая лексика. Подчеркнув, что “в Воскресении Иисуса Христа борьба Бога за человека уже выиграна”, Барт дает понять, что речь идёт не только об успехе в зале суда, но и победе на поле брани: “Война закончилась – хотя тут и там ещё стреляют отдельные части, которые не знают о капитуляции” (с.143).Снова, как говорится, прозрачный намек на поражение ненавистной Германии. А далее – очень полезный нравственный совет, вполне в духе победителей: отныне не следует слишком серьёзно смотреть на грех и смерть, “это – не христианская серьёзность”. Вот и все, что г. Барт имеет сказать об искуплении: это гибрид юридической сделки (“выкуп”) с “капитуляцией” одной из “воюющих сторон”... И снова задаешься вопросом: как подобная развесистая “догматическая” клюква могла заслужить репутацию чуть не самой глубокомысленной богословской теории ХХ века? Таков, очевидно, сам век.
Последние параграфы книги Барта посвящены Церкви. Завершение явления Христа не означает “конец спектакля, когда падает занавес и зритель может идти домой”; наступает “последнее время – эпоха Церкви”. Значение этой эпохи в том, что Бог “ещё имеет терпение”, “оставляет нам время на покаяние”, на “усвоение благой вести”. Всё это звучит несколько загадочно, если вспомнить, что ранее Барт категорически отрицал именно какое
-либо участие человека в “усвоении” благодати. Но уже ясно, что искать у Барта чего-то похожего на сколь-нибудь ответственную теологию (или хотя бы “религиозную философию”) бесполезно.Смысл “эпохи Церкви”, продолжает Барт, раскрывается через “христианское понятие времени”. Основная черта здесь: резко отрицательное отношение к прошлому; последнее, по Барту, суммирует всё негативное в бытии, является “предикатом” греха и смерти. “Грех и смерть были, и вся мировая история, так же и та, что продолжается post Christum, вплоть до наших дней, была. Это всё прошло в Христе” (с.151). Затевать с Бартом полемику о метафизике времени, конечно, нелепо. Считая “прошлое” чем-то по определению ущербным, он воспроизводит классический стереотип позитивизма, для которого прошлое – всегда “темное прошлое
” 15 . Впрочем, его слова отражают и нечто куда более примитивное, чем философский позитивизм; отражают наглое ликование фарисея, решившего, что уже одержана окончательная “историческая победа” над всем, что препятствует поглощению христианства – иудаизмом, Церкви – синагогой. Неслучайно Барт выражает сожаление, что слово “Церковь” ещё не заменили словом “община”, а затем опять впадает в военно-полевую фразеологию: Церковь – это “боевой отряд”, собравшийся “по приказу командира” – Христа. Совершив, таким образом, очередной плагиат у католиков ( выражение “боевой отряд Бога”, la compagnie de Dieu – идёт прямо от иезуитов), Барт смело разрубает узел, связанный с вопросом о “видимой” и “невидимой” Церкви: реальна только “видимая община”; “невидимая Церковь... есть нелепое мечтание [ein Wolkenkuckuksheim]” 16 . Следовательно, Церковь не сакральна: “запах сакрального”, сообщает Барт, невыносим “для тонкого нюха”.Догадываюсь, что иной читатель уже заподозрил меня в пародии на книгу Барта. И действительно, всё это похоже на современный вариант “Писем тёмных людей”, высмеювающий уже не схоластику, а “протестантское богословие”. Тонкий “нюх” Барта, столь чувствительный к “запаху сакрального”, нисколько не оскорбляется тем в высшей степени сомнительным ароматом, который исходит от его собственных писаний. Это весьма напоминает известный рассказ бравого солдата Швейка о человеке, который был готов съесть ложку дерьма, если в неё не попадёт волосинка – в данном случае, волосинка “антисемитизма”.
Теперь Барту осталось рассмотреть вопрос о “прощении грехов” и “вечной жизни”. Когда христианин смотрит на прощение грехов, он смотрит, по Барту, не в ту сторону, “смотрит назад”. Это событие “его утешает, но не более” (с.175). Радикальный футуризм снова заявляет свои права: “было написано нечто, называемое нашей жизнью, и теперь оно перечеркнуто жирной чертою”. Уместно, считает Барт, такое сравнение: жизнь – рисунок, исполняемый ребёнком; у ребёнка ничего не получается; учитель садится и рисует сам, а ребёнок стоит рядом и “только смотрит” (с.177). Эта картинка из школы для умственно отсталых детей не удручает Барта: “Только когда мы знаем – Бог (делает) за нас – мы ответственны в истинном смысле слова”.
Невольно приходит на память письмо Гоголя “Христианин идёт вперед”. Гоголь писал: “Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик”. В христианине всю жизнь действует та “стремящая сила”, которая в других “иссякает к тридцати-сорока годам”. Эта сила, подчеркивает русский писатель, от Бога, но одновременно это сила самого христианина, позволяющая ему учиться и там, где другой уже не находит ничего поучительного. Как контрастирует такое понимание христианского “ученичества” с бартовским представлением о дебиле, который только “стоит и смотрит”!
Последний аккорд книги: о вечной жизни. “Кто не завидует патриархам, жившим даже не 100, а 300, 400 и более лет; кто, другими словами, не понимает красоты жизни, тот не может понять, что значит Воскресение” (с.179). До последних страниц Барт продолжает удивлять своим полным непониманием основных движений человеческой души – и облекает это непонимание, по примеру всякого невежества, в категорические суждения. Казалось бы, ясно: страх физической смерти – совсем не то же самое, что “понимание
красоты жизни”, а такое понимание, в свою очередь, присуще далеко не всем, кто цепляется за жизнь, стремясь любой ценой продлить своё “долголетие”.Выдвинув “зависть к патриархам” как принцип понимания воскрешения из мёртвых, Барт, как и следовало ожидать, расправляется с идеей вечной жизни у тех народов, предков которых Иегова не осчастливил “библейским долголетием
” 17 . Расправляется шутя, поскольку сводит религиозно-метафизические взгляды на бессмертие души к представлению, что “душа, как бабочка, выпорхнет из тела после смерти”. Вдоволь посмеявшись над своей же глупостью, Барт не сообщает, естественно, ничего вразумительного о характере вечной жизни, кроме общих фраз о том, что она есть “преодоление смерти, а не бегство в потустороннее”. Впрочем, даже значение этих общих слов Барт спешит обесценить, объясняя читателю смысл причастия – таинства, через которое христианин действительно становится причастником жизни вечной, ещё оставаясь в жизни временной. У Барта же причастие (как и крещение) – лишь “знак”; в случае причастия – знак того, что “мы – гости за столом Господа”. Невольно мелькает крамольная мысль – а намного ли лучше подобная пошлость в понимании таинств, чем их прямое отрицание? И ещё: не “зависть” к долголетию патриархов, а почитание могил своих предков, где лежат их предназначенные к воскрешению тела, составляет истинное выражение (или “знак”) нашей веры в Воскресение. Но в связи с этим Барт лишь небрежно замечает, что не следует принимать заботу о могилах “слишком серьёзно”. И не удивительно: запустение и осквернение кладбищ, этот верный “знак” безбожия – для Барта, конечно, вполне “безобидная вещь”...Изложив свою “догматику”, Барт оптимистично заявляет: “Кто в это верит, тот начинает уже здесь и сейчас жить совершенной жизнью
” 18 . Но оставим этот последний залп фарисейства без комментария. И от души пожалеем того, кто всю жизнь бежал петушком, уцепившись “за полу иудея”, а думал (или делал вид), что “спешит навстречу Христу”.Постскриптум 1997 года.
Прочитав свой давний отклик на книгу К. Барта, я отчётливо понимаю, что главная задача, связанная с появлением на свет подобных “догматических” откровений, здесь не решена и даже, строго говоря, не поставлена. Отчасти это объясняется тем, что моим основным чувством при чтении Барта было (да и остается сегодня) чувство отвращения. Но подобное чувство – не лучший спутник мысли. В частности, оно помешало мне яснее определить тот более тонкий яд, который заключен в “Очерке догматики” – яд, который можно использовать и не так грубо, как это делает Барт; яд, привкус которого можно ослабить с помощью смягчения некоторых тезисов и суждений (как это и попыталось сделать издательство “Алетейя” в своём “переводе”), сохраняя его смертоносную силу. Этот яд вводят сегодня в христианское сознание, рассуждая о “теологии после Освенцима и Гулага”, умело играя на благородных струнах человеческой души (этой прирожденной христианки), призывая к отречению от христианства “во имя спасения христианства”. И делают это, повторяю, уже не так топорно, как Барт, прибывший в завоеванную страну на штыках победителей; не выпячивая так нагло свою юдофилию, слепую ко всему остальному, ненавидящую всё остальное... Этого я ещё не понимал десять лет назад вполне отчетливо – а главное, недостаточно принял во внимание тот факт (в общем-то хорошо известный in abstracto), что всякая ложь живет лишь за счёт истины, точнее, за счёт нашего нежелания продумать до конца, до последней доступной нам глубины великую истину христианства. Но если мы испугаемся этой глубины, испугаемся света самой Истины, предпочитая оставаться в мягких сумерках “нерассуждающего благочестия” – мы можем стать легкой добычей тех, кто утверждает сегодня власть тьмы, крича при этом на всех углах: “больше света!”.
Чтобы этого не произошло, мы сами должны идти на свет Истины. И от нас даже не требуется мужества и подвига первопроходцев. За полвека до того, как К. Барт обнародовал свою тошнотворную “догматику”, бросил наглый вызов христианству, используя склонность многих христиан (в том числе и теологов) уходить от слишком “острых” проблем и вопросов – русский философ и богослов В.И. Несмелов поставил эти вопросы в своей книге “Наука о человеке”. И среди них – как ключевой и главный – вопрос христианского сознания о том, “как именно Бог мог потерять человека
” 19 , вопрос об ответственности Бога за сотворенный Им мир и за высшее из Своих созданий, за Свой образ и подобие – человека. Сразу подчеркну: серьёзные и дальновидные иерархи Церкви, такие, как Антоний Храповицкий, твёрдо признали право Несмелова ставить такой вопрос; признали строго православным и тот ответ, который дал на него русский мыслитель, раскрывая христианское учение о Спасении – учение, определяющее связь каждого христианина с Христом, Сыном Божьим и сыном человеческим. Нашу связь с Тем, Кто “один только имел основание – принять на Себя самого все грехи мира”, будучи одновременно и Богом, “виновником самого существования мира”, и человеком, осознавшим всю глубину человеческой вины перед Богом 20 . Так совершилось подлинное примирение Бога и человека – на почве признания взаимной ответственности; примирение не только нравственное (что тоже само по себе исключительно важно), но и онтологическое, ибо Боговоплощение создало бытийственную основу для неразрывного “сотрудничества” (синергии) Бога и человека. Бог спас, очистил и восстановил природу человека, а человек стал способен – только после Воскресения Христова – восстановить свою личность, этот образ Божий в каждом из нас, получая постоянную помощь благодати от Церкви Христовой, то есть от самого Христа 21 .Добавлю, что тот же русский мыслитель раскрыл (основываясь на прямых свидетельствах Евангелия) суть той измены Богу, которую совершили духовные вожди еврейского народа, – измены, после которой иудаизм окончательно выпал из плана Спасения, во исполнение слов Христа: “Се, остается вам дом
ваш пуст” (Мф. 23:38). Несмелов же дал и абсолютно точное определение идеологии, которая отныне стала вековечным врагом христианства – как идеологии иудеоязычества 22 , предугадав, по сути дела, будущие попытки возрождения этой идеологии под именем “иудеохристианства”, этого излюбленного словечка нынешних “разноязычных”, уцепившихся “за полу иудея”, извращающих образ Христа и смысл Его дела.К сожалению, глубочайшие мысли В.И. Несмелова оказались или “не нужными” в эпоху пресловутого “серебряного века”, или получили уродливое преломление в сочинениях Н.А. Бердяева и ему подобных (вспомним ещё раз – ложь вынуждена паразитировать на истине). Но всё это, как и более глубокое проникновение в ход мыслей Несмелова и ещё целого ряда подлинных представителей христианской мысли в России – тема особого разговора, сегодня уже не просто актуального, а насущного в полном смысле слова; вопроса самого существования современного мира как мира именно христианского, а не “иудеохристианского”, где правят свой бал “крупнейшие теологи нашего времени” типа К. Барта.
Примечания.
1 Дальнейшие сведения взяты мною из биографии К. Барта, составленной А. Требсом (A. Trebs, Union Verlag, Berlin, 1966).
Заметим, что среди прочего А. Гарнаку принадлежит фундаментальное исследование (причём выдержанное в весьма сочувственном тоне) об оставившем заметный след в истории христианства “еретике” Маркионе, который отвергал всякую преемственность между Евангелием и Ветхим Заветом. Примечание 97г. О той фальсификации, которую совершило здесь издательство “Алетейя”, я упомяну позже, в связи с бартовским анализом соответствующего “догмата”. G. Ebeling “Luther. An introduction to his thought” Fontana Library, 1972, p. 97. “Сущность христианства” (в книге “Общая история европейской культуры” т.5 (б.г.), с.108). Точнее, к Писанию в целом; для Барта оно неделимо, тогда как для Гарнака сущность христианства должна быть освобождена “из-под мусора иудейской религии” (там же, с.111). Ниже станет ясно, что именно этот момент стал источником фанатичной ненависти К. Барта к А. Гарнаку. Цит. по книге: K. Nadler “Die dialektische Widerspruch in Hegels Philosophie und Paradoxon des Christentum”, S.6.8 цит. соч., стр. 136.
В.Ф. Эрн “Борьба за Логос” М., 1911, с.295 и далее. Примечание 97г.: На стр.70 русскоязычного перевода, выпущенного “Алетейей”, в презрительном выражении Барта “бедные люди” изъято слово “бедные” (или “убогие” и т.п.) – по-видимому, для того, чтобы облегчить “экуменический диалог Церквей”, к которому якобы располагает книга Барта, как утверждается в предисловии некого г.Тищенко. Более того, последний прямо обманывает потенциального читателя, заявляя, что Барт только комментирует Апостольский Символ Веры, который “не содержит утверждений, порождающих конфессиональные споры” (с.5). Мы видим, напротив, что Барт агрессивно отстаивает псевдодогмат, как раз и породивший спор Востока и Запада. Возможно, конечно, что г.Тищенко написал своё предисловие, просто не прочитав книгу “крупнейшего религиозного мыслителя нашего времени”. Но вероятнее всё-таки другое: “наше время”, столь любезное г. Тищенко и его коллегам – это их время, время вероотступничества и пакостного обмана. Л.П. Карсавин “Восток, Запад и русская идея” Academia, 1922, с.43. Надо иметь в виду, что слово die Macht объединяет в себе значения “силы” и “власти”. Примечание 97г.: В русскоязычном переводе “Алетейи” этот лозунг почему-то звучит так: “Иудея является врагом” (с.130). По-видимому, для переводчика г. Кимелева не слишком ясно даже различие между Иудеей и Израилем, который всегда воплощал для правоверных евреев (или иудеев) их “союз с Иеговой”; неслучайно Барт постоянно именует евреев – “народом Израиля”, а вовсе не “народом Иудеи”. Добавлю, что в таком переводе слов “Der Feind ist der Jude” стерто и то обстоятельство, что в немецком языке слово der Feind – это и враг, и Сатана (что, впрочем, имеет место и в русском языке). Примечание 97г.: В переводе г. Кимелева я вообще не нашёл соответствующего пассажа. Возможно, я просто его не заметил (перечитывать Барта – занятие весьма муторное); но, скорее всего, издательство “Алетейя” компенсировало таким образом свою деликатность по отношению к “бедным людям Восточной Церкви”. Глубочайший анализ категории “времени” (и, в частности, связи между понятиями “прошлого” и “будущего”) дал в русской философии Павел Бакунин (1820-1900); см. Его книгу “Основы веры и знания” СПб., 1886 г., с. 344 и далее. Буквально: “гнездо кукушки в облаках”. Примечание 97 г.: И здесь “Алетейя” струсила (или схитрила?), переведя этот идиотский пассаж более чем приблизительно (с.246). Но чего не сделаешь для успеха “экуменического диалога”... Заметим, что даже вполне “лояльный” в отношении Ветхого Завета А.С. Хомяков не считал возможным понимать буквально библейскую возрастную арифметику; см. “Записки о всемирной истории” – Полное собрание сочинений, т.4, М., 1873 г. Примечание 97 г.: Словно чувствуя в глубине души, что в нечто подобное “догматике” Барта может верить только полный кретин, переводчик вместо “жить совершенной жизнью” предпочел буквальный, но маловразумительный перевод: “жить завершённой жизнью”. Не проще ли сказать прямо: жить смертью? В. Несмелов “Наука о человеке” т.2, второе изд., Казань, 1906 г., с.195. Там же, с. 333 и др. Там же, с. 353 и др. Там же, с. 51 и др.