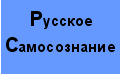Николай Ильин
Трагедия русской философии
Глава первая. От личины к лицу
1§2. Доминанта русской национальной философии:
принцип самосознания.
"Если нет и не может быть русской национальной философии, то нет и не может быть и русского национального самосознания, ибо философия, в отличие от знания предметов, есть именно самосознание целого духа
" [1] * 2 . Эти слова П.Е. Астафьева имеют для нашего исследования поистине путеводное значение; они дают ключ к пониманию той духовной борьбы, которая составляет прошлое русской мысли и которой не избежать в будущем, даже если уйти на самые вершины "чистой философии" - напротив, на этих вершинах борьба вспыхнет с особенной, яростной силой.Но объясним сначала, почему Пётр Астафьев облёк свое суждение (по сути положительное
) в несколько тяжеловесную "условно-отрицательную" форму. Нетрудно догадаться: он явно отталкивался от мнения, кем-то и где-то высказанного, о том, что русской национальной философии "нет и не может быть". Невольно возникает вопрос: откуда взялась подобная мысль ко времени появления статьи Астафьева в одном из номеров "Русского Обозрения" за 1890 год? Разве уже не стало достоянием русской культуры философское наследие И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, П.Д. Юркевича, Н.Я. Данилевского? Разве не звучали в те годы голоса таких незаурядных мыслителей, как А.А. Козлов, К.Н. Леонтьев, Л.М. Лопатин, И.И. Страхов, Б.Н. Чичерин? И наконец, разве не успело русское общество познакомиться с работами B.C.Соловьёва? Всё верно - было к тому времени и наследие, причём не самое скудное; было и актуальное философское творчество; был и Владимир Соловьёв. Курьёз, однако, в том, что именно последний и заявил в 1888 году: "Никаких действительных задатков самобытной русской философии мы указать не можем; всё, что выступало в этом качестве, ограничивалось одною пустою претензией" [2]. Вот так: у всех своих предшественников и современников г. Соловьёв находил лишь "пустую претензию", а для будущего русской философии не видел никаких задатков 3 .В связи с этим становится особенно ясно, почему сегодня так стараются представить в качестве "центральной фигуры" русской философии именно В.С.Соловьёва. Пусть немцы продолжают и сегодня слышать голос Гегеля, обращенный к своим соотечественникам: "Мы получили от природы высокое призвание быть хранителями этого священного огня"
[4], огня философии. Но русские люди обязаны выслушивать совсем иное; обязаны почтительно внимать клевете на русскую философии из уст её мнимого "основоположника"; обязаны, как и он, не верить в русскую философию, в её высокое назначение. А тех, кто не соглашался с этой клеветой, кто считал русский народ, в силу коренных черт его духовного склада, "особенно призванным из всех сфер умственной деятельности именно к философии" [5] - тех необходимо просто изгнать из "историй русской философии", дабы отбить у нас всякую охоту к её подлинному возрождению 4.Сразу уточним один немаловажный момент. Соловьёв отвергал не только "самобытность" русской, философии в смысле её оригинальности, новизны и т.д.
- он заявлял, что даже там, где русские мыслители пытаются развивать чужие идеи, они лишь "воспроизводят в карикатурном виде те или иные крайности и односторонности европейской мысли". Но и это ещё не всё, что имел сказать Соловьёв о нашей духовной жизни. Из той же работы мы узнаём, что русский народ, подобно "другим полудиким (!) народам Востока", вообще не способен к серьёзной умственной работе "в области мысли и знания" [7]. Забудем на минуту о философии и оценим это обобщение по достоинству. Сделано оно было, повторяю, в 1888 году, когда за плечами русской науки уже стояли гениальные открытия Николая Лобачевского и Дмитрия Менделеева, когда в России уже возникли мощные научные школы в математике, физике, химии и других "областях мысли и знания" 5. Ну ладно, учтём, что Владимир Соловьёв, отчисленный в своё время с физико-математического факультета Московского Университета за хроническую неуспеваемость, был в этих областях полным невеждой. Но ведь историко-филологический факультет он потом закончил. Однако при оценке умственной деятельности русского народа он точно так же "не заметил" ни блестящей плеяды отечественных филологов (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский и множество других ярких имен), ни стремительного развития русской исторической науки - славяноведения, европеистики, востоковедения и т.д. Даже творчество собственного отца, выдающегося историка С.М. Соловьёва, не удержало сына от нелепых и злобных обобщений. И в этой клевете на отечество - весь Владимир Соловьёв.Но тогда возникает вопрос: с какой стати серьёзный русский мыслитель Пётр Астафьев обратил внимание на суждения, от которых за версту несло самой примитивной смердяковщиной? Конечно, чувство чести заставляет нас порою отвечать и на самый подлый вызов, на который было бы благоразумнее вообще не обращать внимания. П.Е. Астафьеву, потомку русских дворян по материнской линии и греческих аристократов по отцовской
[9], это чувство было присуще в самой высокой степени; уже поэтому он не мог смолчать на выпады наглого недоучки против "полудикого народа Востока" 6. Но не мог он смолчать - и просто как русский философ.От лица русской национальной философии, уже достигшей полной духовной зрелости, П.Е. Астафьев ясно выразил принцип, составлявший её ядро, её теоретическую доминанту
- принцип самосознания. Астафьев не опустился до мелкой полемики с философским двойником Смердякова; он просто сказал то главное, о чем необходимо помнить в любом случае, независимо от порицаний (или комплиментов) в адрес русского народа и русской культуры. Основной смысл слов Астафьева именно философский, а не публицистический, как можно решить, обратив внимание только на их национально-патриотический пафос. Для Астафьева несомненен тот факт, что душевный склад русского человека (цитируемая работа имеет подзаголовок "к русской народной психологии") располагает последнего к философии: "погруженный лучшими и глубочайшими своими стремлениями в свой внутренний, духовный мир, он не может не быть глубоко проникнут интересом самосознания"; неслучайно, добавляет Астафьев, "в нашей литературе всякое мало-мальски крупное произведение окрашено каким-нибудь философским интересом". Здесь вполне уместно вспомнить те слова, которые бросает у Ф.М. Достоевского не слишком образованный, но глубоко русский по духу Дмитрий Карамазов в адрес "ученого" нигилиста Ракитина: "Все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, а смерд".П.Е. Астафьев мог бы призвать в свидетели и русскую поэзию, которая, конечно, ценна не философской рефлексией (такая рефлексия здесь возможна, но не она определяет ценность поэзии как поэзии), а именно спонтанным, непосредственным выражением душевно-духовной реальности. Той реальности, о которой говорит, например. Фёдор Иванович Глинка
(1786-1880):У души есть заветный свой мир
и только в этом мире каждый из нас
Живёт каким-то бытием,
Которого не знает
и суетливый
человек!Только здесь
- "с самим собой, в себе самом" - человек живёт подлинно:В тиши, таинственно питаясь
Высоким, истинным, святым.
На свой лад ему вторит Я.П. Полонский, выражая уже иной оттенок того же центростремительного душевного движения, отделяющего человека от внешней природы, где:
...всё полно блаженного незнанья;
А мы осуждены отпраздновать страданье,
И холод познаём и пламенный недуг.
Но иного пути для человека нет:
Как мы ни спасаемся
В миг самозабвения
От самосознания,
Всё ж мы просыпаемся.
Человеку, который не хочет "проспать" свою жизнь, проспать себя, необходимо мужество самосознания; и удивительно ёмко это выразил такой чуждый ложной патетике и сентиментальному "прекраснодушию" поэт, как Пётр Андреевич Вяземский
(1792-1878):Собраться духом, молча, одному
Сойти спокойно в внутреннюю келью.
Отыскивать себя в себе самом
И быть не тем, во что нарядит случай,
Но чем могу и чем хочу я быть.
Какой бы глубокой серьёзностью ума, даже метафизическим прозрением связи между самосознанием и подлинным самобытием не веяло от этих строк, все-таки повторю во избежание распространенного недоразумения - здесь не cледует искать философии как таковой; здесь выражена только потребность в философии и её внутренняя необходимость. Но что особенно важно, эти (как и многие другие) строки русских поэтов говорят менно о личном самосознании. Последнее составляет отправную точку и русской философии; её национально- патриотический пафос по сути произведен от пафоса чисто философского. Философия призывает человека к ясному и глубокому самосознанию: познай самого себя, gnvJ seauto ' . И уже мысля просто последовательно, настоящий философ должен утверждать необходимость такого же самосознания и для своего народа. А ещё точнее, он открывает национальное измерение своего собственного самосознания, измерение, без которого личность оказывается внутренне ущербной.
Вот почему на первом плане стоит для нас самосознание как философский принцип. Опознание и раскрытие этого принципа мы находим у всех классиков русской философии; собственно, присутствие этого принципа (конечно, не случайное, а последовательно проявленное во всех элементах философского творчества) и определяет классическое в философии, то есть то, что "сберегает себя в качестве непреходящего", "выделяется на фоне осознаваемого упадка и исторической дистанции" [11]. Действительно, философия ставит самые разнообразные вопросы и дает на них самые разнообразные ответы - но собственно философский характер этих вопросов и ответов определяется именно самосознанием человека. Каждый вопрос философии так или иначе связан с вопросом о вопрошающем, с вопросом человека о себе самом, каждый ответ, поскольку это действительно философский ответ, раскрывает самого человека как метафизически ответственное существо 7 . И сразу уточним: принцип самосознания не относится, естественно, к каким-то "исключительным особенностям" русской философии; но прежде чем говорить о таких особенностях, надо понять то основное качество, которое делает русскую философию - именно философией. Классики русской философии выражались на этот счёт совершенно ясно и определенно. Приведу пока только несколько характерных (и наиболее простых) высказываний.
По взгляду В.И. Несмелова, "нет и не может быть такого человека, который бы фактически не был философом, так как убежать от философии значит то же самое, что и убежать от сознания самого себя" [13]. Вдумаемся в эти слова. Философия неслучайно считается одним из самых странных занятий - ибо она, в сущности, не "занятие", но способ существования человека как человека, то есть существа, способного не просто "быть", но "быть-для-себя". Без этого "для себя" стирается всякое различие между человеком и вещами, потому что "для другого" существует, так или иначе, любая вещь 8. Конечно, настоящей ясности, полноты и глубины самосознания достигают лишь немногие, и только они с полным правом носят имя философов; здесь можно повторить евангельское: "много званных, а мало избранных" (Мф.22:14). Призваны к философии все люди без исключения; но следуют этому призванию лишь единицы (в том числе и среди так называемых "профессиональных философов"). Тем не менее, идеал полноценного самосознания значим для каждого человека; бегство от этого идеала означает бегство от самого себя, от своего человеческого призвания; означает, говоря прямо, превращение в недочеловека. А тем, кому последнее выражение покажется слишком резким, напомню слова, которые произнес светоч русского Православия, еп. Феофан Затворник (1815-1894): "Погасите самосознание и свободу - вы погасите дух, и человек стал не человек" [14].
Очень важно, что именно представители русских духовных академий энергично подчеркивали наличие у философии своего собственного принципа, отвергали поглощение философии
- богословием (словно предвидя, что такое поглощение поведет к деградации самого богословия, как и произошло позже в т.н. "религиозной философии" 9). В.И. Несмелов представлял в данном случае Казанскую Духовную Академию; а вот что говорил, ещё на полвека раньше, о существе философского знания профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Василий Николаевич Карпов (1797-1867): "первый момент сознания есть сам человек, и первая наука в системе философии есть наука самопознания" [15]. Предельно ясно выразил ту же мысль и старший современник Несмелова, профессор Киевской Духовной Академии Пётр Иванович Линицкий (1839-1906): "философия всегда признавала самосознание человеческого духа основою для себя и вместе главною своею задачею" [16]. Запомним, от кого исходили эти суждения - чтобы позже сравнить их с заявлениями самозванных "светских богословов" начала XX века.Но сейчас нам важно убедиться, что принцип самосознания являлся доминантой русской философии эпохи её расцвета в целом, независимо от официального положения того или иного мыслителя. Особое место занимает здесь книга П.А. Бакунина "Основы веры и знания". Собственно, и её название неявно указывает на тот же принцип, поскольку, согласно Павлу Бакунину, знаменитое положение
cogito, ergo sum (установленное сначала бл. Августином "со стороны веры", а потом Декартом "со стороны знания") "следует понимать не абстрактным, а вполне конкретным образом, не в смысле способности сознавать что-либо другое, а только в смысле самосознания, действительно присущего только живому и только живущему существу" [17]. Для Бакунина "есть только одна истина, истина саморазумения", и "всякий живущий несёт эту истину в себе самом" [18]. Заметим, что русский мыслитель прямо подчеркивает связь своего основного принципа с традицией христианской метафизики в европейской мысли; этой связи, исключительно важной для самоопределения русской философии, мы коснёмся уже в следующем параграфе. Не является случайным для Бакунина и слово жизнь, то есть обращение к живому самобытию существ, а не условному "бытию" идей и понятий; здесь "русский гегельянец" (как обычно характеризуют П.А. Бакунина "историографы" типа Зеньковского) вполне созвучен "русскому лейбницианцу" (по классификации тех же "историографов") П.Е. Астафьеву, для которого "жизни столько же, сколько субъективности, ведомости себе" [19].Исчерпывающее доказательство того, что все основные категории, необходимые для понимания реальности (субстанция, сила, причина, единство, цель, ценность и т.д.), "черпаются нами первоначально из самосознания", мы находим в работах Л.М. Лопатина, замечавшего: "только потому мы можем знать о действительности нечто подлинное, что само наше сознание есть бесспорно подлинная действительность"
[20]. Особое значение имеет для Лопатина (как, впрочем, и для других русских мыслителей) тот факт, что в самосознании открывается творческая, активная природа человека, "самодеятельность нашего духа", в точном смысле этого слова. Поэтому принцип самосознания не замыкается в себе, но внутренне связан с принципами самобытия и самоопределения. Другими словами, на почве самосознания гносеология непосредственно смыкается с онтологией (так что их противопоставление, столь характерное для "корифеев ренессанса" с их крикливым "онтологизмом", просто лишено смысла в ядре философии) и аксиологией (понимаемой, как учение о ценностях и идеалах человеческого духа). Именно на почве самосознания устанавливается и первичный смысл человеческой свободы (вспомним приведенные выше слова святителя Феофана); "здесь область духа, а потому и область свободы (ср. 2 Кор. 3:14)", как отмечал уже Пётр Астафьев [21].Таким образом, взятый в своей цельности, во всех своих логически очевидных следствиях и связях, рассмотренный, если угодно, системно (в настоящем смысле естественной системы), принцип самосознания открывает путь и к познанию "внутреннего человека, в его полноте" (П.Е. Астафьев); и к познанию "единства саморазумения и разумения другого" (П.А. Бакунин); и к пониманию "внутренней духовности всего действительного" (Л.М. Лопатин); а на самых вершинах, в конце долгого и трудного пути, и к постижению тех "отношений внутреннего самосознания к богопознанию", которые прозревал ещё И. В. Киреевский
[22], и которые были раскрыты в трудах А.А. Козлова, В.Д. Кудрявцева, В. А. Снегирёва, наконец, В.И. Несмелова, чья "Наука о человеке" составляет завершение классического периода русской философии, исполнение ею своего высокого назначения.Но сейчас мы, конечно, не будем пробегать этот путь поверхностно, второпях; главное, что мы нашли для всего дальнейшего ту исходную точку, о которой замечательно просто и. ясно сказал Н.Н. Страхов: "для человека исходною точкою всегда будет и должен быть сам человек"
[23]. А то, что приведенные выше слова классиков русской философии не вырваны из контекста (приём, которым сегодня пользуются, к сожалению, слишком часто 10), отражают самую суть их творчества, покажут, естественно, только соответствующие главы данной книги. Пока же нам достаточно подчеркнуть, что доминанта русской национальной философии очевидна для каждого, чей взгляд не зашорен "историографией" в стиле Зеньковского и прочих. И только для того, чтобы подкрепить сказанное показаниями "третьего лица" (причем вовсе не склонного к апологии русской мысли), мы кратко остановимся на одной работе по истории русской философии, работе по-своему весьма поучительной.Речь идет об "Очерке развития русской философии" Г.Г. Шпета
(1879-1938); в 1922-ом году в Петрограде была опубликована первая из трех частей "Очерка", где автор добрался только до 30-40-х годов XIX века; этим дело и кончилось. Поскольку сам Шпет просил (в предисловии) судить об его книге, лишь прочитав её в целом, мы исполним его просьбу и воздержимся от рассмотрения историко-философских установок автора. Нельзя, однако, не отметить очевидное с первой страницы сугубо критическое отношение Шпета к предмету своего исследования; сам он именно судит русскую философию, и судит крайне строго, фактически не скрывая того, каким будет окончательный приговор. Тем не менее, Шпету нельзя отказать в добросовестности или, по крайней мере, тщательности при проработке материала, относящегося, по сути дела, ещё к предыстории русской философии; той тщательности, которой так не хватает Зеньковскому и которой вовсе нет в книгах Николая Лосского и Левицкого. В отличие от этих авторов Шпет не фильтрует русскую мысль, не спешит отбросить "второстепенное", даже явно стремится дать панораму философских исканий (точнее, исканий философии) в России конца XVIII - начала XIX веков. И вот, благодаря элементарной объективности, пусть и с холодком отчуждения и иронии, уже через несколько десятков страниц становится совершенно очевидной та доминанта, которую мы уже отметили и которая, конечно, вполне раскрылась позже, когда русская философия стала философией в собственном смысле слова.Подчеркну: из мыслителей, чьи высказывания приводились выше, Шпет доходит только до В.Н. Карпова, да и то ближе к концу опубликованной части "Очерка". Но именно поэтому можно сказать с уверенностью: классики русской философии только возвели в ясный принцип то, что изначально составляло основной мотив отечественного "любомудрия"
11 . Этот мотив звучит вполне отчетливо ещё в сугубо предфилософских размышлениях историка Василия Никитича Татищева (1686-1750), для которого, как сообщает Шпет, "главною наукою" было то, "чтоб человек мог себя познать". Вслед за Татищевым другой историк (и консервативный публицист) князь Михаил Михайлович Щербатов (1733- 1790) делает то же "философическое" ударение - на "познание человеком самого себя... колико в нём величества и подлости!" (запомним эту немаловажную оговорку) - и даже вводит отнюдь не лишённый философского смысла неологизм самство для характеристики внутренней сущности человека [24] * 12. А вот Шпет добирается до экзотической фигуры малороссийского мудреца Григория Саввича Сковороды (1722-1794), отчасти справедливо упрекая его в "эклектике"; но и среди этой эклектики не тонет тот же лейтмотив - "познай самого себя!", подкреплённый характерным поэтическим перлом:Брось коперникански сферы!
Глянь в сердечные пещеры!
…
Нужнейшее тебе
Найдёшь ты сам в себе.
И Шпет замечает: "Об этом Сковорода твердит неумолчно"
- а точнее, только об этом и говорит сей "эклектик" постоянно, в какие бы дебри гностицизма его по ходу дела ни заносило. Однако после своих же собственных фактических указаний на основной мотив "русской предфилософии" Шпет вдруг заявляет: "Итак, 18-ый век не оставил новому ни философского наследства, ни даже философского завета" [25]. Насчёт наследства ещё можно согласиться, но вот завет был точно оставлен! И пусть этот завет был по своей сути заветом философии как таковой, той эстафетой, которая переходила от Сократа к Августину, от Августина к Мейстеру Экхарту, от Экхарта к Декарту и Лейбницу; заветом, который сопряг воедино античность, средние века и новое время. Всё это говорит лишь о том, что русская философия (и даже "предфилософия") совершенно верно уловила главное, наисущественное в традиции европейской метафизики.Стоит заметить уже сейчас: совершенно бессмысленно искать самобытность русской философии в чём-то доселе неслыханном, придуманном именно русскими мыслителями. По существу, ничего "неслыханного" в философии не только не могло быть в 19-ом веке, но и никогда не было
13, для самых ярких философских озарений всегда можно найти те или иные зарницы в прошлом. И это понятно: философия говорит о вечном в человеке, о том, что так или иначе заявляло о себе в самых первых проблесках самосознания. И уж конечно давно пора оставить нелепую склонность подозрительно относится ко всему, что возникло в русской философии "под влиянием Запада". Подлинный смысл этих влияний раскрывают безупречно точные слова Н.Н. Страхова: "европейские влияния лишь пробудили те струны и силы, которые уже таились в русских душах" [26]. Вот суть дела: любое влияние эффективно только тогда, когда находит в объекте влияния сродное себе, по выражению Г.С. Сковороды. Другое дело, что в русских душах есть разные "струны и силы"; есть струны, способные издавать только фальшивые звуки, есть силы, которые могут служить только саморазрушению. Но вряд ли стоит перекладывать вину за их пробуждение на Европу. Например, склонность к гностическим "поискам Абсолюта" (всегда уводившим от христианской истины) могли пробудить Бёме и Шеллинг, а могли и чисто "восточные" влияния (каббала в случае Вл. Соловьёва, "шамбала" в случае Рерихов). Но сейчас речь идет совсем о другом о пробуждении в русском человеке воли к философскому самосознанию. И если такому пробуждению тоже способствовала Европа, то ей следует сказать "спасибо" и взять на себя ответственность за то, как это пробуждение конкретно осуществилось.А осуществлялось оно
- если перейти из XVIII-го в начало XIX-гo века - несомненно по линии философской рефлексии, путем обращения к "внутреннему человеку", а не путем ухода в общественно-политические баталии. Эти баталии, эти схватки на поле публицистики начались позже; вначале была именно философия. Вот момент, который упорно не замечают те, кто думает, что "проблема самосознания" возникла в русской мысли лишь в контексте борьбы "западников" и "славянофилов", после истерической выходки П.Я. Чаадаева. Сам того не ведая, Г.Г. Шпет разрушает этот миф, приводя суждения первых русских философов пусть ещё не очень умелых, писавших, действительно, "по прописям", но всё-таки по серьёзным философским "прописям", вступивших на путь, которым идут философы, а не "боевики пера" (как выразился однажды В.В. Розанов, сравнивая Н.Н. Страхова и М.И. Каткова 14).По такому пути пошёл, в частности, Иван Иванович Давыдов
(1794-1863), отмечая (в работе 1826-го года), что "основное положение философии есть положение безусловное, не зависящее от начал других наук". Где же можно найти такое положение? Давыдов отвечает: "Это тождество бытия и знания, подлежащего с предлежащим, познающего с познаваемым", то есть самосознание, "душа, обращённая к себе самой" [28] * 15. Весьма характерно то, что И.И. Давыдов участвовал, как сообщает Шпет, "в кружке, собиравшемся у министра С.С. Уварова в его имении Поречье" - и рискну утверждать, что именно из "академических бесед", которые здесь велись и где господствовал чисто философских дух, выкристаллизовалась великая идея народности, уяснялась связь самосознания личного и национального. Но об идее народности несколько позже; а пока вспомним ещё несколько имён скромных первопроходцев русской философии.Исключительно интересны и проникнуты подлинно философским пафосом суждения Константина Зеленецкого
(1802-1858), для которого "первоначальный закон духа... есть самосознание". Более того, этот практически неизвестный русский мыслитель вводит категорию, прямо связанную с категорией самосознания, говоря о "потребности духа... утверждать его независимость, или, что то же, свою самобытность" [29]. Знаменателен чисто философский контекст, в котором Зеленецкий говорит о самобытности, выделяя метафизический (а не публицистический) смысл этой категории, угадывая неразрывную связь потребности "познать самого себя" с потребностью "быть самим собою". Мимоходом замечу: Зеньковский упоминает о Зеленецком - но не приводит ни одной его мысли, сообщая лишь, что тот был "ближе к Шеллингу, чем к Канту" [30]. Какая глубокомысленная характеристика! И невольно думаешь: не лучше "не любить" русскую философию, как Шпет, чем "любить", как о. Василий? Добавлю, что у того же Зеленецкого мы находим ясно выраженную мысль о тех периодах в жизни народа, аналогичных детству, зрелости и старости отдельного человека, а также интересный анализ соотношения между понятиями "народ", "человечество", "отдельный человек". Принцип самосознания и здесь становится основой для понимания общественно-исторических явлений.Не менее, а даже более зримо, чем у названных сейчас университетских философов, выступает тот же принцип на первых шагах русской духовно-академической философии, значение которой мы уже отмечали выше. Благодаря кропотливым выпискам Шпета становится ясно, что именно в стенах духовных академий последовательнее всего утверждалось понимание философии как "саморазумения духа человеческого", если воспользоваться выражением Фёдора Федоровича Сидонского
(1805-1873) из книги "Введение в науку философии" (1833). Вспоминает Шпет, естественно, и В.Н. Карпова; не повторяя сказанного выше об этом замечательном мыслителе, отметим, однако, один характерный момент, прямо связанный с проблемой "европейских влияний". Шпет упрекает Карпова во "влиянии плохо понятого Рейнгольда" (одного из наиболее авторитетных в начале XIX-го века последователей и интерпретаторов Канта). Упрёк типичный и, брошенный мимоходом, нередко убийственный с точки зрения иного современного читателя (который панически боится "плохо понимать" чужое, вовсе не думая о том, что сначала надо хорошо понять своё). Но в данном случае Шпет неосторожно входит в суть этого "плохого понимания" - и сразу выясняется нечто крайне важное. У Карла Рейнгольда (1758-1823) в центре философии стоит "факт сознания", причём специально оговаривается, что этот "факт" по сути равноудален от того, кто сознаёт, и от того, что сознаётся. Напротив, для Карпова "основание мыслимого" лежит именно в "существе мыслящем", в живом субъекте сознания. Русский мыслитель отдаёт явное предпочтение субъекту перед объектом, "подлежащему" перед "предлежащим", личности ("кто") перед вещью ("что"). Утверждая в качестве первопринципа именно самосознание конкретного лица, Карпов implicite отвергает фикцию "сознания вообще" - фикцию, которая была характерна для германского идеализма (и для "хорошо понимавшего" этот идеализм Шпета). Принцип самосознания в русской философии - это не "плохо понятый" Рейнгольд (или сам Кант, или Фихте-старший и т.д.), а принцип, понятый существенно иначе, чем его понимали названные европейские мыслители, понятый в направлении к огням личной жизни, как прекрасно выразился спустя целое столетие И.А. Ильин, не менее, чем Шпет, изощрённый в субтильностях трансцендентального идеализма, но постепенно осознавший его роковую слепоту к "первоначальной аксиоме человеческого существования: «ты не я, а я не ты»" [31].Сказанное сейчас находит прямое подтверждение в анализе термина "сознание", данном Иосифом Григорьевичем Михневичем
(1809-1885), выпускником Киевской Духовной Академии и преподавателем лицея Ришелье в Одессе (как и Константин Зеленецкий). Со-знание, со-ведение - подразумевают, по Михневичу, активного субъекта знания (или ведения), который стремится "всё соединить с собою и себя со всем" [32]; другими словами, у сознания всегда есть центр, и центр вполне конкретный: личное я, или душа 16. Комментируя тезис Михневича: "основа всех наших знаний есть душа с её силами и действиями", Шпет разражается, как обычно, упрёками в "психологизме", в том, что для первых русских мыслителей "психология, как наука о сознании, самопознании, душе, человеке, становится основою философии" [33]. Сразу отметим: опасность такого рода, конечно, есть, и её ясно осознали уже в 60-70-ые годы Н.Н. Страхов, Н.Г. Дебольский, П.Д. Юркевич. Но через эту опасность (или искушение) надо было пройти, чтобы вернуть философию из мира "трансцендентальных" теней действительности - к самой действительности, к миру живых существ. И фактически это признаёт сам Шпет, замечая по поводу "Лекций по умозрительной психологии" профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Федора Александровича Голубинского (1797-1854): "Его психология может быть прямо названа теистической онтологией души" [34]. Естественно, что родоначальники русской философии многое упрощали, ещё не замечали всех подводных камней, всех трудностей, связанных с раскрытием принципа самопознания; но они по сути безошибочно опознали сам этот принцип как ядро метафизики, "Самосознающий дух наш существует" - вот, согласно протоиерею Ивану Михайловичу Скворцову (1795-1863), "непоколебимое основание философии". И надо было обладать немалой духовной смелостью и, добавим, зоркостью, чтобы отметить уже тогда: начинающая с собственного основания "истинная философия, как говорили и отцы церкви, есть путеводитель ко Христу" [35].Порой создается впечатление, что и сам Шпет как бы попадает под обаяние этой зоркости, начинает смутно понимать её значение. И вот он уже характеризует речь Ореста Марковича Новицкого (1806-1884), произнесённую в 1837 году, на торжественном акте Киевского Университета, как "первое русское философское произведение, написанное с истинно философским вкусом, чутьём и сочувственным пониманием задач философии" [36]. Только почему первое? Ведь тут же мы узнаём, что "содержание философии, по Новицкому, заложено в глубине нашего собственного духа" по Новицкому, как и по основному взгляду русской духовно-академической мысли в целом. Более того, у О.М. Новицкого яснее ясного выражено убеждение в глубоко национальном характере философии, в том, что "все великие люди, и в особенности замечательные философы - представители своего народа, они доводят до сознания то, что темно и безотчётно таится в духе народном" [37]. И это уже прямо перекликается со словами П.Е.Астафьева, написанными через полвека - о том, что русская философия должна выразить "мировоззрение народа, духовный и умственный интерес которого сосредоточен на самом духе, на самом внутреннем человеке, в его полноте" [38].
Но остановимся; ведь теперь, я думаю, совершенно ясно, что русская философия второй половины
XIX века раскрывала принцип, который её первопроходцы установили еще в первую половину этого великого столетия русской культуры. Н можно только удивляться тому, что Г.Г. Шпет, приведя в своём "Очерке" множество цитат, из которых совершенно очевидна доминанта русской философии нигде не говорит о ней прямо, как о доминанте; даже вообще не замечает значения принципа самосознания в русской философии до тех пор, пока не доходит до проблематики национального самосознания в творчестве ранних славянофилов. А между тем, исключительно важно именно то, что русская философия сначала установила принцип самосознания как собственно философский принцип и лишь после этого (а точнее сказать - в силу этого) сосредоточила внимание на его культурно-историческом, национальном аспекте 17 . На деле же величайшая заслуга первых русских мыслителей заключается именно в том, что они, находясь ещё на ступени "предфилософии", ясно опознали первопринцип философии в собственном смысле слова, заложив тем самым прочную основу для здания самостоятельной русской философии. Конечно, это здание строилось преемственно к традиции европейской (а вернее индоевропейской, или арийской) метафизики. Но надо ясно понять: преемственность на почве принципа самосознания может быть только творческой; она не исключает, а подразумевает самостоятельное мышление. Ведь "познать самого себя" могу только я сам, никто не сделает этого за меня, даже если подскажет мне задачу самопознания.Зная сугубо прагматический характер нынешней "патриотической идеологии", не устанем повторять: исключительно важно то
, что первые русские мыслители начали именно с метафизики, с самого глубокого, фундаментального уровня самосознания; уровня, на котором раскрываются основополагающие понятия субъекта, субстанции, "я", индивидуальности, личности. Не начав с этого уровня, не разрешив всех возникающих здесь проблем (требующих именно философского, а не историко-филологического мышления, характерного для многих нынешних "идеологов"), мы не получим и продуманного учения о национальном самосознании. В этом смысле представители духовно-академической философии в России подошли к делу основательнее, чем несколько позже так называемые "старшие славянофилы", у которых (за исключением И.В. Киреевского) отсутствовала именно настоящая метафизика самосознания, подмененная или социально-политическими (братья Аксаковы), или богословскими (А.С. Хомяков) аналогиями. Стоит отметить уже сейчас, что "раннее славянофильство" (о котором мы будем подробнее говорить в следующей главе) было фактически вторым этапом в становлении русской национальной философии; доминанта последней стала здесь более наглядной (даже для Шпета), поскольку вышла на публицистическую поверхность. Конечно, бессмертную заслугу славянофилов составляет то, что они откликнулись на великую идею народности, которую выдвинули император Николай I и граф С.С. Уваров; но их отклику не хватило, в общем и целом, чисто философской глубины, умения понять и раскрыть эту идею как таковую (а не подменить другими идеями, типа социальной "общины", художественного "хора", церковной "соборности"). Вот почему следующее поколение русских мыслителей, поколение классиков русской философии, по сути вернулось к существенно философскому образу мыслей, характерному для духовно-академической философии в России (вопрос о том, почему такой образ мыслей органически сочетается именно с Православием, мы рассмотрим позже). Неслучайно Н.Н. Страхов отзывался с глубоким уважением о творчестве В.Н. Карпова, подчёркивая, что его труды "принадлежат к числу самостоятельных и вполне философских сочинений" [39] - хотя в них нет того торопливого перескока к "национальной идеологии", которым часто грешили русские мыслители публицистического склада. Впрочем, и сам Карпов понимал внутреннюю связь своих чисто философских исследований с утверждением православно-русского мировоззрения, говоря, например, так: "Философия отечественная, оригинальная, должна иметь в виду определение места, значения и отношении человека в миpe, поскольку человек, сам в себе всегда и везде одинаковый, в развитии охарактеризован типом истинно русской жизни; и, раскрыв требования его природы, прояснить ему его обязанности по отношению к отечеству и религии" [40]. Здесь ещё не всё сказано вполне точно; но не будем забывать, что это было написано в 1840 году, когда русская философия ещё только обретала своё лицо. Так или иначе, основная мысль выражена здесь совершенно верно: сначала философия как учение о человеке, о фундаментальном строении его природы, о важнейших "константах" этой природы - и только потом, на этой основе, серьёзное решение проблем более практического характера. То есть, по сути, то же самое, о чём говорили позже Н. Н. Страхов, П.Е. Астафьев и другие: сначала русская философия как учение о личном самосознании, потом - русское национальное самосознание как ясное представление русского народа "о своих силах и стремлениях, о том, что ему дорого и мило, и что - ненавистно, о своих насущных задачах, о себе самом" [41].Такая логика самопознания стала определяющей для русской философии
19-го века, позволила последней приобрести то значение, которого не могли дать окрашенные в "философические" тона размышления о "смысле существования России", о "русской идее", "русском духе" и т.д. Сами эти размышления становятся философски значимыми только на почве метафизики, отдающей себе ясный отчёт в использовании слов "смысл", "существование", "идея", "дух"; там, где такого отчета нет, мы имеем лишь публицистику определенного направления, не более. Отметим уже сейчас и следующий момент. Только принцип самосознания, понятый в его собственно философском содержании, объясняет тот загадочный феномен русской общественной жизни, который называется интеллигенцией. О нём, естественно, то и дело вспоминает Г.Г. Шпет; много писали об интеллигенции авторы знаменитых "Вех" (совершенно ошибочно увязав значение интеллигенции исключительно с её религиозными убеждениями); до хрипоты горла обсуждались достоинства и (чаще) недостатки "русской интеллигенции" в среде российской эмиграции. Но поразительным образом мне нигде не попадалось точное определение этого понятия. А между тем, никакой неразрешимой загадки здесь нет. Что бы ни думал беллетрист Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), которому обычно приписывают "введение" слова "интеллигенция" в русский литературный язык, коренное значение этого слова одно: интеллигенция значит самосознание. В этом значении его употребляли классики немецкой философии (обстоятельство, отмеченное и даже подчёркнутое А.Ф. Лосевым в его "Диалектике мифа" [42], без упоминания, однако, общественного звучания этого понятия). А раз так, то настоящий интеллигент - это человек, обладающий глубоким и ясным личным самосознанием; а настоящий русский интеллигент - человек с таким же национальным самосознанием. Вот основное, а все остальные признаки "интеллигентности" - по сути второстепенны. И отсюда, несомненно, следует, что именно лучшие представители русской национальной философии являлись ядром русской национальной интеллигенции; а заодно ясно, увы, и то, как мало настоящих интеллигентов сегодня (однако вовсе не по причине "плохих манер" и редкого посещения филармонии).Но обо всём этом нам ещё придется говорить глубже и основательней; пока же мы сделали лишь самый первый шаг: опознали доминанту русской национальной философии, привели многочисленные свидетельства того, что этой доминантой на протяжении всего
XlX века был именно принцип самосознания, или непосредственная очевидность личного существования человека. Кто-то заметит: даже слишком многочисленные свидетельства; не проще ли было, назвав этот принцип, прямо заняться его раскрытием? Но дело в том, что не следует подражать дурному примеру тех, кто "с лёгкостью необыкновенной" полагает доминанту русской философии в идеях и принципах, лишь промелькнувших в истории русской мысли, хотя и оставивших после себя более или менее заметный след 18.Подражать подобной "методологии" мы не имеем никакого желания; наша задача состояла в том, чтобы выделить принцип, к которому русские философы обращались постоянно (хотя бы и в форме критики этого принципа, а точнее, тех или иных его формулировок); принцип, который высказывался явно и раскрывался последовательно, а не от случая к случаю. Конечно, и здесь есть исключения из правила
— но всё-таки правило остается при этом правилом, а не возведенным в "правило" исключением! Конечно, и здесь есть свои вершины, достаточно немногочисленные - ибо настоящих вершин всегда немного; но эти вершины существенно принадлежат к метафизическому ландшафту русской философии в целом, а не занесены сюда каким-то случайным ветром. А что касается оригинальности принципа самосознания, то оценить её возможно только по тому, как именно раскрывали этот принцип русские мыслители - и никак иначе. В том же, что они раскрывали его глубоко по-своему, сумели поднять учение о самосознании человека (и народа) на существенно новый уровень - нам ещё предстоит убедиться.Итак, русская философия изначально выбрала путь, идти по которому значило: создавать "науку о человеке", "науку самосознания".
Каким бы упрощённым, в чём-то ещё наивным ни было это понимание собственной задачи философии в начале пути, постепенно русским мыслителям открывалось сложное строение знания, основанного на принципе самосознания. Философская антропология (или учение "о месте человека в мире") соединялась здесь с философской психологией (учением о "внутреннем человеке"), субъектология (учение об общих свойствах "сознающего существа") с персонологией (учением о человеке как "духовной личности"). Ставились и разрешались труднейшие вопросы, связанные с категориями субстанции и её актов, свободы и творчества, разума и веры, времени и вечности, жизни, смерти и бессмертия
- если называть только основные участки проблемного поля русской философии XIX века. Постигалось (едва ли не раньше, чем в европейской философии) принципиальное значение проблемы "чужого я"; анализ актов внимания и понимания связывал саморазумение человека с разумением другого - и, прежде всего, духовно близкого, родного, "своенародного". А главное, всё глубже уяснялось значение самосознания как "естественной основы богосознания" [43], открывалась на пути философского самопознания та предельная истина, что "человеческая личность по своей природе является реальным образом истинно сущего Бога" [44]; метафизика человека обретала ясные контуры христианской метафизики, по дальновидному слову Гаврилы Романовича Державина (1743-1816):Я есмь
- конечно, есть и Ты.Какой протяженный, трудный и великий путь! Путь, удивительным образом пройденный за одно столетие; результаты его вполне оправдали то накопление духовных сил, которое скрывалось за долгим "молчанием" русской мысли. "От избытка сердца говорят уста" (Мф. 12:34) - русская философия только подтвердила это правило, которому следует разумная речь, или подлинный человеческий l o 'g o V .
Но взяв за основу принцип самосознания, русская философия выбрала глубоко трагический путь; собственно, трагедия по своей сути
- это всегда трагедия самосознания, трагедия "души, знающей о себе самой". Об этом догадывались русские поэты, хотя они, конечно, не раскрывали природу этой трагедии, но художественно выражали её, восклицая, подобно В.А. Жуковскому:Великое бремя, страшное бремя души!
или:
Как страшно самому с самим!
-
подобно Ф.И. Глинке. И только русская философия подняла переживание трагедии на уровень её понимания.Существенные черты этого понимания мы, конечно, выясним позже, тщательно рассмотрев творчество классиков русской философии. Мы найдём здесь трагедию одиночества
, но и трагедию общения; трагедию "загадки о человеке" - но и трагедию очевидности, когда всё существование человека освещается "страшным светом сосредоточенного сознания" [45]: трагедию неизбежной зависимости человека от своей природы и трагедию свободы, "возможности для себя иного" [46] * 19 . Мы взглянем (кто-то из нас, вероятно, совершенно новыми глазами) на трагедию смерти, которая не позволяет человеку "пережить самого себя" [47], в которой человек даже "возвращается к самому себе" [48] и тогда глубже поймём трагический императив личного бессмертия. Трагический потому, что человек утверждает своё бессмертие перед лицом Бога, не соглашаясь ни на какие эрзацы жизни; ибо "верить в Бога не теоретически только, но действительно, всем существом и всеми помыслами жизни, собственно и значит утверждать своё личное бессмертие... бессмертие самого существа, самой личности этого единичного человека - не его рода, не его племени, не его мыслей или памяти - но именно его самого, его единичного тревожного сердца, исполненного жаждою и страстью жизни" [49]. Только такая вера правдива - и уже дело мыслителя показать, что она глубоко и строго православна.Пусть сказанное сейчас посеяло в читателе какие-то сомнения и недоумения; иначе и не могло бы быть, если в нём есть то "тревожное сердце", о котором говорил
II.А. Бакунин, которому посвятил глубочайшее философско-психологическое исследование В.А. Снегирёв, в котором - "а не в четвёртом измерении пространства" призывал искать Бога Н.Н. Страхов [50]. Русская национальная философия XIX века ясно формулировала и посильно решала те вопросы, которые вызревали в сердце русского человека, в постановке которых открывалась русская народность, эта субстанция русского человека. Последний ещё мог, конечно, показать свою беззаботность, сказав вместе с Алексеем Васильевичем Кольцовым (1809-1842):Я недоросль, а не мудрец
...
С несчастным от души поплачу,
И не стремлюсь понять
- что значу-
но всё равно произносил, как и "поэт из народа" Алексей Кольцов, основной, самый трагический вопрос: "Что значу я?", вопрос, узловой для всей проблематики русской культуры и русской жизни вообще, существенно первичный по отношению ко всяческим "что делать?" и "кто виноват?". И уже отметая наигранное легкомыслие Алексея Кольцова, русский почвенник Аполлон Григорьев произнес:Но бросим шутки тон... Печально, не смешно –
Что слишком мало в нас достоинства, сознанья.
Русская философия, отбросив "шутки тон", обратилась с полной серьёзностью к вопросу о достоинстве человеческой личности, о значении этого достоинства для русской народности, обратилась ко всей проблематике человеческого существования проблематике неизбежно трагической, поскольку "только через трагическое обретает история своё чисто человеческое содержание" [51].
Я не случайно привёл сейчас слова не русского, а западноевропейского мыслителя, Хаустона Стюарта Чемберлена (1855-1927
) 20. Трагичность не является, конечно, привилегией только русской философии; печать подлинной трагедии лежит на философии всех народов арийской расы 21. Расы, из материнского лона которой и рождён человек, вопрошающий о себе самом, и потому человек трагический. Русская философия (а с нею и вся русская культура) стала причастна этой общей судьбе - но причастна особым образом. Особым уже потому, что возникла сравнительно поздно - и уже не имела права на ошибки, простительные другим! Ошибки, которые как-то смягчали трагедию самосознания для древних индусов и древних греков, для мыслителей средневековой Европы и Византии, даже для корифеев европейской философии Нового времени, которые ещё могли, как Лейбниц, изобретать фальшивые "теодицеи", или думать, подобно Фихте, что философия служит "наставлением к блаженной жизни". Русская философия не имела возможности неспешно пережить то детство самосознания, когда, по словам В.А. Снегирёва, "как будто блеск молнии прорезывает... на несколько мгновений мрак, в котором находится ребёнок, освещает окружающее и его самого, и затем мрак опять сгущается" [52]; она сразу вошла в "полдень жизни" (Н.Н. Страхов), в зрелость "души, знающей о себе самой" (П.Е. Астафьев). И если есть что-то чрезмерное для нас в той настойчивости, с которой первопроходцы и классики русской философии повторяли слова "дух", "душа", "личность", "сознание", "самосознание" то лишь потому, что мы сами трусливо отринули крест самопознания, взятый ими без колебаний и пронесённый до конца.Но тогда, заметит читатель, получается, что русская философия
XIX века была по сути продолжением европейской философской традиции? На этот вопрос я должен ответить совершенно прямо: русская национальная философия действительно явилась продолжением всего подлинно философского, что было в этой великой традиции. Вот следующий момент, крайне важный для понимания исторической судьбы русской философии, входящий в число принципов понимания этой судьбы. Для русских мыслителей XIX века была естественна и даже императивна творческая преемственность к наследию европейской философии. Преемственность эта, по сути очевидная, закрыта сегодня столь же густым облаком пыли (поднятой теми же зеньковскими и их нынешними эпигонами), как и теоретическая доминанта русской философии, засыпанная пустопорожними разговорами о "соборности". Но, к счастью, и здесь мы располагаем ясными свидетельствами самих русских мыслителей. Не создав историографии русской философии (ибо они ещё создавали сам предмет этой историографии), русские мыслители XIX века оставили ряд сжатых, но весьма ценных размышлений о европейской философии, даже о философском содержании европейской культуры в целом. Остановимся на некоторых из них; сделать это стоит тем более, что здесь мы найдём не только глубокую оценку чужого труда, но и не менее важную самооценку. Такой результат вполне закономерен; ведь, как отмечал П.А. Бакунин, диалектика человеческой жизни включает "внимание от себя к другому и внимание же от другого к себе" [53]. Именно внутри этого "круга внимания" складывается целостное понимание (понимание себя и другого), поднявшееся над круговоротом своих и чужих заблуждений, впитавшее свои и чужие постижения.Литература
/.
Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи М., 1890 г., с. 22-23.2.
Соловьёв B.C. Собрание сочинений, т.V СПб., б.г., с.88.3.
Розанов В. В. Сочинения - Л., 1990г., с. 565.4.
Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии, т. I СПб., 1993 г., с. 64.5.
Астафьев П.Е. цит. соч., с.41.6.
Гулыга А.В. Русская идея и её творцы М., 1995 г., с. 11.7.
Соловьёв B.C. цит. соч., с.92.8.
Данилевский Н.Я. Горе победителям. Политические статьи М., 1998 г., с. 412.9.
Русское Самосознание, №1, СПб., 1994 г., с.9 и далее.10.
Розанов В.В. Литературные изгнанники СПб., 1913 г., с 13011.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод М., 1988 г., с. 342-343.12.
Мысль, №1, СПб., 1997 г., с.60-69.13.
Несмелое В.И. Наука о человеке, т I- Казань, 1994 г. (репршнт), г.30514.
Феофан (Затворник) Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться? -Л., 1991 г. (репринт), с, 43.15.
Карпов В.Н. Введение в философию - СПб., 1840 г., с. 123.16.
Линицкий П.И. Пособие по изучению вопросов философии - Харьков, 1892г., с. 202.17.
Бакунин П.А. Основы веры и знания - СПб.. 1886 г., с.36-37.18.
там же, с. 39.19.
Астафьев П.Е. Вера и знание в единстве мировоззрения - М., 1893 г., с. 150.20.
Лопатин Л.М. Положительные задачи философии, ч.2 М., 1891 г.. с.53.21.
Астафьев П.Е. цит. соч., с. 96.22.
Киреевский И.В. Полное собрание сочинений, т.1 М., 1911 г., с.279.23.
Страхов Н.Н. Мир как целое -второе изд., СПб., 1892 г., с.ХII.24.
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии; в дальнейшем эта работа цит. по изданию: Русская философия. Очерки истории Свердловск 1991 г., с.284.25.
там же, с. 306.26.
Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе - кн. вторая СПб, 1883г., с. 17.27.
Неведенский С. Катков и его время - СПб., 1888 г., с. 75.28.
Шпет Г.Г. цит. соч., с.323.29.
там же, с. 328.30.
Зеньковский В.В. История русской философии, т.1, ч.1 - Л., 1991 г., с. 137.31.
Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта - М., 1993 г., с.42.32.
Шпет Г.Г. цит. соч., с. 420.33.
там же, с. 422.34.
там же. с.403.35.
там же, с. 409.36.
там же, с. 423.37.
там же, с. 426.38.
Астафьев П.Е. Национальность...-указ. изд., с.44.39.
Страхов Н.Н. Философские очерки, второе изд., Киев, 1906г., с. 16.40.
Карпов В.Н. цит. соч., с. 117.41.
Астафьев П.Е. цит. соч., с.6.42.
Лосев А.Ф. Из ранних произведений - М.. 1990 г., с. 555.43.
Астафьев П.Е. Вера и знание... -указ. изд., с. 96.44.
Несмелое В. И. цит. соч., с.272.45.
Страхов Н.Н. Мир как целое - указ. изд., с. 180.46.
Астафьев П.Е. Опыт о свободе воли - М., 1897 г., с. 91.47.
Страхов Н.Н. цит. соч., с. 144.48.
Бакунин П.А. цит. соч., с. 401.49.
там же, с. 303.50.
Страхов Н.Н. О вечных истинах., СПб., 1887 г., с.56. ,51.
Chamberlain H.S. Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts, I Halfte – Munchen, 1906, S.49.52.
Снегирёв В.А. Психология - Харьков, 1893 г., с.296-297.53.
Бакунин П.А. цит. соч., с.95.
§3. "Работники одиннадцатого часа". Классики русской философии и европейская философская традиция.
"Европейское просвещение, этот могущественный рационализм, это великое развитие отвлечённой мысли должно быть для нас побуждением к
... сознательному уяснению наших собственных духовных инстинктов" [1]. Читатель, вероятно, уже привык к тому, что суждения русских мыслителей XIX века (в данном случае Н.Н. Страхова) постоянно расходятся с суждениями т.н. "религиозных философов", типа Н.А. Бердяева, заявлявшего: "рационализм и индивидуализм - первородные грехи европейской культуры" [2]. На это заявление Страхов мог бы ответить, во-первых, своей любимой поговоркой: чужими грехами свят не будешь. А во-вторых, он мог бы повторить свое простое, но совершенно точное замечание: "Все мы отчасти рационалисты, потому что во всяком деле мы неизбежно рассуждаем, а если рассуждаем, то, значит, прибегаем к каким-нибудь началам и приёмам разума, и даже всегда стараемся проводить эти приёмы и начала как можно дальше" [3]. От такого естественного рационализма не свободен ни один человек (если, конечно, он не лишён разума), в том числе и человек верующий. "Как мольеровский мещанин был очень удивлён, узнав, что говорит прозой, так, без сомнения, многие ревнители веры не подозревают, что рационализм вообще есть дело неизбежное (выделено мной – Н.И.) и что сами они на каждом шагу оказываются рационалистами" - пишет Страхов. Да и как могли бы христиане, не рассуждая, исполнить завет апостола: "будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением" (1Петр. 3:15)? К этому месту Евангелия, в каком-то смысле ключевому для понимания настоящего смысла слова ratio, мы вскоре вернёмся; о пока заметим, что по-русски слово "отчёт" прямо подразумевает отчётливость, ясность, то есть существенные признаки рационального мышления, если вспомнить знаменитое положение Декарта: "всё, что мы постигаем ясно и отчетливо, тем самым - в силу такого постижения - истинно" [4]. И классики русской философии не отвергали этот критерий истины, а считали, что именно на вершинах христианской мысли создаются условия для его применения, открывается "глубокая правда рационализма" [5], как говорил В.И. Несмелов, отмечая, что именно апостолы, ученики Христа, проповедовали после дня Пятидесятницы "с ясным познанием истины христианства и с ясно-отчётливой верой в истину христианских учений" [6].Конечно, так называемая "проблема рационализма" решается достаточно просто, если с самого начала учитывать два момента:
1) никакое познание невозможно без участия логического мышления, причём, как правило, в качестве одного из ключевых элементов познания; 2) познание истины не является исключительно рациональным, в нём участвуют и чувство, и воля человека, короче, его духовно-душевная сущность в целом (как участвует здесь и его физический организм, с соответствующей системой ощущений) 22. Поэтому классики русской философии не спорили, по большому счёту, с критикой "исключительного" рационализма, которую дали ранние славянофилы ещё в период становления русской философии. Напротив, у П.Е. Астафьева, А.А. Козлова, В.А. Снегирёва и других мы находим тот глубокий философско-психологический анализ волевых и эмоциональных факторов познания, который у славянофилов ещё отсутствовала а Н.Н. Страхов в своей философской антропологии блестяще раскрыл и значение нашей системы ощущений ("внешних чувств") как полной системы, достаточной для восприятия всех фундаментальных свойств физического мира (отдав тем самым должное и "правде эмпиризма"). Так или иначе, призыв И.В. Киреевского искать "в глубине души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое цельное зрение ума" [8] - был вполне созвучен доминанте русской национальной философии, принципу самосознания (в данном случае - сознания всех своих познавательных сил). Теперь требовалась серьёзная философская работа, включавшая, в частности, и точное определение понятий "мышление", "рассудок", "разум", "умозрение" и т.п. Но доводить отчасти справедливые упреки славянофилов в адрес "отвлечённой рассудочности" до абсурда, изгонять рационализм (не случайно связанный с узким, но существенным определением человека как homo rationale) под грохот шаманского бубна, под выкрики о том, что "сквозь трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь Вечности" (П.А. Флоренский) - настоящим русским мыслителям в голову не приходило. Время "корифеев" с трещинами в рассудке пришло несколько позже...Нетрудно, однако, заметить, что ряд классиков русской философии отстаивал положительную ценность рационализма с особенной энергией. "Чтобы действительно спасти знание от безнадёжного иллюзионизма, необходима рациональная онтология"
[8] - подчёркивал Л.М. Лопатин, и аналогичные суждения мы будем постоянно встречать при рассмотрении трудов Н.Г. Дебольского, В.И. Несмелова, Б.Н. Чичерина. Но, конечно, на первом месте здесь снова стоит Н.Н. Страхов, его призыв понять и усвоить "дух рационализма, к области которого принадлежит всё, что в науках есть истинно научного" [9]. Чем же объясняется эта энергия в утверждении рационализма (энергия, при поверхностном знакомстве со взглядами Страхова, способная даже ввести в заблуждение - он, как мы убедимся, исключительно ясно видел подлинные границы рационализма)? На этот вопрос отвечает сам русский философ.Дело в том, что считать
XIX век эпохой не то что господства, а хотя бы преобладания рационализма в европейской культуре величайшее недоразумение. При сколь-нибудь внимательном взгляде мы находим в ней, напротив, стремительное нарастание вражды к рационализму, и "эта вражда упорно ведётся всеми, спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами" [10], отмечал Страхов. Здесь не место доказывать справедливость этих слов, давая подробный анализ различных (порою даже весьма различных) явлений европейской культуры, и в частности, философии, в которых всё более разрушался образ человека как homo rationale: от романтизма с примкнувшим к нему Шеллингом, пессимизма Артура Шопенгауэра, "философии бессознательного" Эдуарда фон Гартмана и первых выкриков "экзистенциализма" в лице Серена Кьеркегора (1813-1855) - до позитивизма Огюста Конта (1798-1857), дарвинизма и материализма всех мастей (где, пусть с различной степенью деликатности, доказывается, в сущности, одно и то же: "человек есть то, что он ест") 23. И приходится с сожалением констатировать: в той мере, в какой ранние славянофилы примкнули к этой вражде (пусть только в её "высших формах"), они лишь попали в общее русло европейской мысли, уловили её основную тенденцию - и присоединились к ней, когда она только стала набирать силу. А уж какой-нибудь Бердяев, с его криками о "первородном грехе", был в XX веке безнадежно устаревшим, перепевавшим то, о чём на Западе шумели уже больше столетия, особенно ультракатолики, типа незабвенного Жозефа де Местра (1753-1821).Подлинные строители и классики русской философии пошли здесь, однако, против течения. И при этом ясно выразили основную причину своего противостояния "духу времени". "Наш век хочет познавать, но упорно отказывается мыслить"
[11] - таков диагноз Н.Н. Страхова. Но познание без мышления, если и возможно вообще, не имеет никакого философского значения; отнюдь не случайно, не произвольно в языках всех европейских народов слова "философ" и "мыслитель" - почти синонимы. Только мыслящий человек, человек, способный "ставить и развивать понятия", по словам Страхова, "заслуживает имени человека философствующего". Для молодой русской философии увлечение "критикой рационализма", пусть в каких-то отношениях и справедливой, могло оказаться самоубийственным. Такая критика возможна лишь в связи с ясным и глубоким пониманием положительного значения человеческой рациональности. К этому значению и необходимо обратиться в первую очередь 24.Существо человеческой рациональности не передают, конечно, такие поверхностные характеристики или метафоры, как "наружная стройность логических понятий", "внешняя формальность" или "самодвижущийся нож разума" (которые сегодня только и помнят из работ славянофилов, хотя тот же Иван Киреевский смотрел на дело, как нам предстоит убедиться, более основательно
) 25. Считая, что философская истина достигается только на пути рационального мышления, классики русской философии продумали проблему рациональности значительно глубже. Особая заслуга принадлежит здесь Л.М. Лопатину, чьи слова о необходимости рациональной онтологии мы уже приводили выше. Ещё чаще говорил он о рациональной метафизике; только такая метафизика имеет в глазах Лопатина философскую ценность. Таким образом, проблема рациональности тесно связана с проблемой возможности метафизики, волновавшей европейскую мысль в течение всей её истории. Разберёмся в этом принципиальном моменте внимательней.Лопатин ясно формулирует тот метафизический импульс, который присущ философии, исходящей из принципа самосознания: "Мы не считаем непосредственно переживаемый мир собственного сознания за всю реальность
- вот в чём лежит корень метафизики" [12]. Здесь схвачена самая суть дела. Начиная с данных своего сознания, с известного вполне достоверно, человек на этом не останавливается, не ограничивается "феноменологией сознания", но пытается перейти от данного к неданному (и к тому, что лежит "вне" его сознания, и к тому, что лежит в глубине, а не на поверхности сознания). Такой переход ( m e t a ’b a s i V ) и является метафизическим актом. Все аспекты этого фундаментального акта мы рассмотрим, конечно, позднее 26; а сейчас нам достаточно понять, что подобный переход должен быть обоснованным, или рациональным. Ведь ratio для философии - это, прежде всего, основание; в этом смысле термином ratio пользовались ещё схоласты (ratio agendi - основание действия; ratio cognoscendi - основание познания; ratio essendi основание бытия). И такой смысл действительно является главным; ведь в приведённом выше месте из ап. Петра сухим словом "отчёт" переданы греческое слово l o’ g o V , и, соответственно, латинское слово ratio - и то, и другое означает, в данном случае, "(разумное) основание" 27. В этом требовании основания - та "глубокая правда рационализма", о которой говорил В.И. Несмелов; правда, которую русские мыслители сумели увидеть, понимание которой они сумели углубить (как именно - мы ещё рассмотрим ниже), проявив здесь настоящую творческую преемственность к западноевропейской метафизике.А какой ценою расплачивается мыслитель за отказ от такой преемственности
- показывает современная европейская философия, где отрицание (или ложное понимание) рациональности ведёт или к отрицанию метафизики, или к подмене метафизического акта беспочвенной "трансценденцией", трактуемой как "выдвинутость в Ничто" [14], по выражению экзистенц-нигилиста М. Хайдеггера (которому усиленно, хотя и не слишком убедительно, подражал с начала 30-х годов Бердяев).Заметим, кстати, что все мнимо глубокомысленные рассуждения о "ничто" в философии, утратившей дух подлинного рационализма, покрываются точным афоризмом Х.С. Чемберлена: "кто ниоткуда, тот никуда
" [15] (афоризмом, приложимым и к национальному бытию человека).Проблема основы
(ratio) является, конечно, многогранной; в частности, хотя признание основания как основания является привилегией разума, активное утверждение основания в качестве основания требует веры, ибо "верить - значит утверждать всем существом своим то, что признаётся за действительную и несомненную истину" [16], как писал П.А. Бакунин. Вопрос о подлинной национальности тесно связан и с проблемой очевидности, которая заняла центральное место именно в европейской философии Нового времени. "Философия должна исходить из сомнения во всём, что не доказано и не имеет прямой очевидности - это требование Декарта навсегда сохранит для неё свою силу" [17] - писал Лопатин, в глазах которого "всё наше знание о вещах ... связано неразрывной цепью очевидности" [18]. Тот же взгляд на ключевое значение проблемы очевидности мы найдём у других классиков русской философии, а также в творчестве И.А. Ильина, который и по этому пункту никак не вписывался в когорту "антиномистов", просто прозевавших проблему, которая остаётся центральной и в серьёзной гносеологии XX века 28.Итак, уже в силу сказанного ясно, что русская национальная философия проявляла настоящую творческую преемственность к лучшим, наиболее глубоким традициям европейской метафизики, развивала эти традиции и энергично защищала идею рациональной метафизики от её многочисленных противников; защищала тогда, когда на Западе, под натиском философского модернизма, эту идею были готовы предать забвению или извратить, отказавшись от её ключевых элементов
29. И вот теперь мы подходим к проблеме, ясное понимание которой открывает глубочайший мотив отмеченной выше преемственности, объясняет, почему эта преемственность имела для русских мыслителей по-своему императивный характер.Для всех классиков русской философии без исключения центральным онтологическим понятием рациональной метафизики было понятие субстанции; а в свете принципа самосознания все они утверждали, в первую очередь, субстанциальный характер человеческого духа. Здесь были, конечно, свои споры, различия в оттенках (порою достаточно важных), несовпадение представлений о мере познаваемости субстанции, разные взгляды на важнейшую проблему объективации духа (поставленную еще Н.Н. Страховым). Всего этого мы непременно коснёмся. Но сейчас скажем то главное, что позволит затем понять: защищая метафизическую традицию европейской философии, русская философия защищала (и развивала) традицию христианской философии как таковой.
Сам по себе "принцип субстанциальности" является онтологическим коррелятом принципа основания; если в последнем утверждается необходимость логического основания
(ratio) всех наших суждений, то в первом речь идет о реальной основе явлений, их первоисточнике и причине (causa); о деятеле, производящем явления и т.д. Замечательно ясно сформулировал принцип субстанциальности Л.М. Лопатин: "во всяком действии, явлении, свойстве и состоянии что-нибудь действует, является, обладает свойством и испытывает состояние" [19]. Стоит внимательно вчитаться в эти слова, чтобы понять самоочевидность выраженной в них истины. Но вполне справедливо замечал в связи с этим Пётр Астафьев: "Нет задачи труднее и неблагодарнее, как доказывать несостоятельность отрицания вполне самоочевидных ... истин" [20]. Когда в разуме человека появляются "трещины", через них вовсе не входит познание "вечности", а напротив, улетучиваются именно вечные истины. Это и произошло с европейской философией ещё в эпоху становления философии русской; философский модернизм энергичнее всего атаковал именно понятие субстанции. И это естественно: без принципа субстанциальности метафизика теряет всякий смысл, поскольку субстанция и есть то "неданное", что раскрывает себя в "данном"; но никогда не раскрывает до конца, всегда сохраняет свою чисто метафизическую глубину. Какие только ухищрения ни использовались, чтобы осмыслить понятие субстанции: заменив его "математическим понятием функции" (Г. Коген и его ученик и соплеменник Э.Кассирер); определив "явление" как то, что "само себя являет", и, соответственно, заменив понятие "глубины" понятием "горизонта" (Э.Гуссерль и его ученик, хотя и не соплеменник, М. Хайдеггер), и т.д., и т.п. Но сейчас речь не об этих бесплодных вывертах мысли, изначально, по своим духовным корням (напомню, что слово раса происходит от слова "корень", radix) чуждой интуициям индоевропейской метафизики. Важнее то, что этим интуициям была верна русская национальная философия. Уточним, однако, момент в высший степени принципиальный: если бы русские мыслители отстаивали только понятие "субстанции вообще", они могли бы угодить в ловушку не менее опасную, чем ловушка позитивизма всех оттенков (в том числе и "феноменологического"). Но с безошибочной интуицией классики русской философии утверждали реальность индивидуальных субстанций.Это утверждение имеет кардинальное метафизическое значение. Подобно тому
, как существует ложный, исключительный рационализм, признающий познавательное значение только за мышлением, а в других душевно-духовных силах человека видящий лишь помеху (или считающий их только "модусами мышления"), так существует и ложный, исключительный субстанциализм, признающий только одну абсолютную субстанцию", слепой к многообразию самобытных существ, превращенных им в "модусы Абсолюта". И, что весьма характерно, в философии Нового времени ложный рационализм и ложный субстанциализм соединились в одном лице - в лице Боруха Спинозы, оказавшего поистине роковое влияние на ряд выдающихся европейских мыслителей, творческое дыхание которых было в значительной мере подавлено тяжеловесной скрижалью спинозизма: это можно сказать о Фихте и Шеллинге, да в немалой степени и о Гегеле 30 .Напротив, в русской национальной философии понятие субстанции утверждалось неразрывно с индивидуальным характером субстанциального бытия, и это утверждение не было, конечно, произвольным, необоснованным. Ведь понятие субстанции имеет свой корень именно в самосознании человека, которое всегда является, по словам Астафьева, "внутренним, субъективным, индивидуальным"; здесь мы получаем знание о субстанции из первых рук, поскольку мое "я"
- это не мышление, а то, что мыслит; не чувство, а то, что чувствует; не действие, а то, что действует; короче, это знание "не феноменальное, а субстанциальное" [23]. И ту же аргументацию (которую нам, конечно, предстоит рассмотреть подробнее) мы находим у Алексея Козлова, Льва Лопатина, Виктора Несмелова, а позднее у Сергея Аскольдова 31.Замечу, что русские мыслители вовсе не считали себя первооткрывателями того фундаментального онтологического факта, что субстанциальное бытие (или самобытие) всегда индивидуально, есть бытие конкретного самобытного существа; в частности, они отнюдь не случайно подчеркивали заслуги тех мыслителей Нового времени, которые вели решительную борьбу со спинозизмом, и в первую очередь
- Лейбница, мыслителя, для которого "один дух стоит всего мира" [24] * 32 . Стоит отметить и то сочувственное внимание, которое русские мыслители питали к своим современникам в европейской философии, выступавшим против наката спинозизма и его философских (или псевдофилософских) "производных" - позитивизма, материализма, ложного универсализма, коллективизма; к числу таких современников относился, в первую очередь, Герман Лотце (1817-1881), чей "Микрокосм" является, несомненно, одним из самых замечательных произведений европейской философии XIX века. Бросает ли это тень на оригинальность русских философов? Ответ на подобный вопрос даёт их собственное понимание оригинальности, которое Страхов выразил так (говоря о творчестве Льва Толстого): "высшая оригинальность, конечно, заключается в глубине и полноте, с которою писатель проникает в какое-нибудь всегдашнее, вечное начало человеческой души" [25]. При всей разнице между художественным "проникновением" и философским познанием такое понимание подлинной оригинальности сохраняет силу и для философии.Итак, русские мыслители сознательно продолжали ту традицию европейской метафизики, которая признавала самобытность отдельных существ, а не только "мирового духа", "абсолютной субстанции" и т.д. Но прежде чем говорить о главном
- о подлинном первоисточнике такой традиции, отмечу один момент, и притом момент трагикомический. Достаточно точно (хотя и несколько упрощённо) выражают суть очерченных выше идей, характерных для классиков русской философии, такие суждения: "всякое бытие есть конкретный дух, живая и индивидуальная, субстанция"; "Если есть в философии истина незыблемая, так это то, что всякое бытие субстанциально и духовно, что всякое бытие - индивидуальное я" [26]. Но кто же их произнес, какой борец за метафизический смысл индивидуализма? Да никто иной, как наш вездесущий Бердяев! Тот же Бердяев, чью оценку индивидуализма мы уже приводили выше; а сейчас добавим, что и понятие субстанции Бердяев (или его "двойник") в других случаях решительно отвергал именно в применении к человеку (см., например, [27]). Откуда эта интеллектуальная шизофрения? На деле за нею стоит настоящая жизненная трагедия. Слова о "незыблемой истине", о том, что всякое бытие - это "индивидуальная субстанция" и даже "индивидуальное я" (выделено самим Бердяевым) были написаны еще в 1904 году, когда Бердяев не только жил в России, но и энергично осваивал труды Козлова, Лопатина, Несмелова (это отмечается им самим в процитированной сейчас статье "О новом русском идеализме"). Осваивал, правда, не слишком глубоко; так, приведённые выше слова содержат грубое упрощение, поскольку с точки зрения классиков русской философии "индивидуальной субстанцией" (и тем более "индивидуальным я") является не "всякое бытие", а только самобытие 33 . Но до глубокого усвоения русской философской традиции дело так и не дошло (хотя обрывки мыслей настоящих русских философов Бердяев использовал до конца жизни). Атмосфера "серебряного века" (а Бердяев, хотя и имел задатки философа, был крайне чувствителен именно к "атмосфере", к модным - и, следовательно, выигрышным в глазах "общества" - поветриям) достаточно быстро исказила его философские взгляды; а эмиграция окончательно изгнала настоящего философа из его души, превратила Бердяева в заурядного (хоть и шумного) популяризатора мнимых "открытий" экзистенциализма. Правда, русское в нём всё-таки осталось - но осталось больше как звук, как без конца повторяемое, но уже "освобожденное" от своего подлинного смысла слово "личность"...Слово, которое классики русской философии произнесли намного раньше, с ясным пониманием его философского значения и сознанием особой ответственности философа за это слово. Ответственности, обусловленной тем, что понятие личности составляет, как в силу культурно-исторических причин, так и по существу дела, по основной задаче философского знания, центральное понятие именно христианской философии. Той философии, необходимой ступенью к которой явилась, в частности, и европейская рациональная метафизика, вышедшая в Новое время из-под "опеки" католической теологии.
Об этом совершенно ясно говорил, например, Н.Н. Страхов
- и не между делом, а в статье с характерным названием "О задачах истории философии" (1893). Страхов пишет здесь: "С появлением христианства человек стал в новые отношения к Богу и природе именно потому, что человеческая личность получило неизмеримо высокое значение, какого она никогда не имела в древнем мире. Когда Бог явился во плоти и назвал людей своими сынами и братьями, тогда, естественно, для души и мысли человеческой должен был начаться новый период. Но такой глубокий переворот не мог совершиться легко и быстро" [28].Как всегда, Страхов отмечает самую суть дела. Благая весть христианства утвердила неизмеримо высокое значение человеческой личности, утвердила на камне Боговоплощения; ведь Бог воплотился не в "человечество", даже не в "богоизбранный народ", а именно в человека. Это событие должно было вызвать глубокий духовный переворот, в том числе и в философии, которая, наконец, могла в полной мере стать тем, чем она и должна быть: учением о человеке, а не двойником учения о Боге (богословия) или учения о природе (науки в собственном смысле слова). Но для этого требовалось время, преодоление многих умственных привычек: привычки помещать человека куда-то в зазор между Богом и природой, рассматривать его не как самобытное существо, а как "полубога-полузверя"; привычки приглушать значение индивидуального по сравнению со значением общего, уникального по сравнению с универсальным (для эллинов христианство потому и было "безумием", что с их точки зрения "единичный человек Иисус" был совершенно неспособен "вместить" в себя "универсальный божественный Логос"). Средневековая мысль, или схоластика, отмечает далее Страхов, и стала такой школой нового понимания человека; но именно школой, "отрочеством" христианской философии. В период зрелости последняя вступила только в Новое время. Страхов категорически отвергает взгляд, согласно которому философия Нового времени представляет "как бы возвращение к язычеству, попятный ход человеческого духа
" [29] 34 . Такая оценка, по мнению Страхова, глубоко несправедлива. Хотя и в Новое время ещё не был достигнут идеал христианской философии, было совершено много серьёзных ошибок (в том числе и под прямым влиянием католицизма и протестантизма), много шагов назад и в сторону - общего характера философии Нового времени это не изменило. "Декарт и Кант, если бы они не были христианами, не обратились бы к своей душе и к своему познанию так, как они это сделали" - говорит Страхов, и то же самое можно сказать (пусть тоже с различными оговорками) о Беркли и Лейбнице, Фихте и Гегеле... Только в философии Нового времени человек по-настоящему обратился к самому себе - и это главное. Мы судим европейскую философию XVI - XIX веков самым строгим судом - но смутно сознаём при этом, что она такого суда достойна, в точном смысле этого слова, ибо её классики (за исключением Спинозы), так или иначе исходили из идеи о том, что "человеческая душа есть то бесконечно ценное в себе, перед чем бледнеет значение всех других вещей" [30], как подчеркивал уже Лев Лопатин.В силу по-своему оправданной строгости нашего суда мы не замечаем и явных достижений этой философии, в том числе и немаловажных "отрицательных" достижений. "В христианском мире, в мире новой философии, материализм, как философская система, уже невозможен, уже появляется и ищет себе опор только вне сферы философской мысли
" [31] - отмечает Страхов, и отмечает по сути верно: сегодня любой философски образованный человек понимает несостоятельность материализма (а если не понимает, то именно в силу низкого уровня философской культуры) и тем более его несовместимость с христианством. А ведь когда-то даже вполне "вульгарный" материалист Тертуллиан долгое время оставался учителем Церкви - и был отлучен от неё лишь за явную "внутрицерковную" ересь. Но доказательство философской несостоятельности материализма стало возможным лишь потому, что "мысль человека приобрела новые силы, новую смелость и твёрдость, природа ей стала покорнее, и мир духовный яснее и понятнее" - пишет Страхов. А говоря конкретнее, только в метафизике Нового времени понятие духа утвердилось в качестве ключевой философской категории (даже средневековые схоласты вполне обходились здесь аристотелевским понятием "формы").Классики русской философии ясно увидели значение европейской философской традиции как традиции христианской по своей сути, по своей основной творческой линии; и что ещё важнее, они чётко выделили ту идею, которую теперь предстояло философски освоить преемственно к этой традиции: идею личности. Освоить, не отбрасывая представлений о человеческом духе, о субстанции, об индивидуальном характере бытия действительно духовного и субстанциального, о рациональном методе философского обоснования (а не простого декларирования!)
- но творчески применяя все эти реальные достижения и открытия. Именно к решению такой задачи они считали призванной русскую философию.Пожалуй, ещё полнее, чем Н.Н. Страхов, выразил тот же взгляд на связь между европейской и русской философией П.Е. Астафьев, в частности, в работе "Из итогов века"
(1891). Эта небольшая книжка является, помимо прочего, и замечательным исследованием по философии культуры, бросающим яркий свет на историю европейской духовной жизни в целом. Но сейчас мы выделим только те моменты, которые непосредственно связаны с нашей темой.В античном обществе, отмечает Астафьев, "ещё не было ни ясного понятия о духовной личности
... ни самостоятельной личности" [32]. Обратим внимание на то, что здесь (и во многих других случаях) Астафьев говорит не просто о личности, но о духовной личности; личностное начало в человеке, будучи особым началом, не сводимым к духу, вместе с тем является зерном, которое прорастает только на духовной почве 35. Конечно, метафизическое значение этого различия между духом и личностью мы рассмотрим в дальнейшем весьма внимательно; а пока отметим, что терминология Астафьева (восходящая к Ивану Киреевскому) неявно проводит черту между персонализмом подлинным и мнимым (или между персонализмом и лжеперсонализмом, о котором нам придётся время от времени вспоминать). Русской национальной философии был изначально чужд "голый", гипертрофированный "персонализм", хотя её основная интуиция была, несомненно, персоналистична, сосредоточена на значении личности - но не загипнотизирована этим значением! Вот почему Астафьев сразу отмечает, что у античного мира был свой высокий идеал - идеал человека-гражданина. "Для древнего гражданина его участие в управлении родиной было обязательным служением" [33], и это служение - по сути национальное - Астафьев считает глубоко ценным, определявшим реальное достоинство античного человека, его a ? r e t h ? , или "способность, умение и силу выполнить принятую на себя задачу" [34]. Тем не менее, как философ, Астафьев понимал, что безраздельное господство такого идеала ставит человека в полную зависимость от учреждения (на языке современной культурологии - "института", будь то институт государства, полиса, сословия, рода или семьи). Признать же себя только элементом, членом, органом и т.д. какого-либо учреждения - даже и религиозного, сакрального - человек не может и не должен.Поэтому, продолжает Астафьев, стало неизбежным вступление античного мира "в период борьбы политического идеала гражданина с идеалом духовного человека". В Древней Греции открыли этот период софисты и Сократ; тезис "человек есть мера всех вещей", как и призыв "познай самого себя"
- прокладывали путь к новому самосознанию человека как духовно значимой личности, значимой независимо от своего "места" или своей "функции" в обществе. Духовная личность, ещё дремавшая в античном человеке, уже искала своего признания. И такое признание она получила, причём не от общества, даже не от самого человека, но от истинного Бога. "Наконец, времена исполнились, и над миром засияла христианская истина, признавшая духовную личность, её назначение и её внутреннюю жизнь за самое святое, высокое и ценное в бытии" [35].Мы видим, что Пётр Астафьев вполне единодушен с Николаем Страховым в главном: идея личности вошла в европейскую культуру благодаря христианству. К слову сказать, единодушен с русскими мыслителями был в данном случае и Х.С. Чемберлен, писавший несколько позже: "благодаря христианству каждый отдельный человек получил дотоле неведомое, ни с чем не соизмеримое значение
" [36]. Конечно, выражения "отдельный человек", "индивид", "личность", "духовная личность" несут разную философскую нагрузку; но в конечном счёте все они указывают на значение и достоинство, которым обладает (или способен обладать) каждый из людей. Впоследствии мы убедимся, что многообразие этих выражений отражает реальные уровни человеческого самосознания, не равноценные по своей высоте, но одинаково необходимые для того, чтобы не подменить человека упрощенной философской абстракцией (в которую легко превратить и понятие личности).В своей работе П.Е. Астафьев внимательно прослеживает те процессы в европейской культуре, которые помешали прочному утверждению идеи личности, её верному и глубокому пониманию. Мы не будем сейчас подробно касаться этой стороны культурфилософского анализа, проведенного Астафьевым; отметим только, что, по его мнению, решающую роль сыграло постепенное подавление (и искажение) национального характера человеческого существования, совместной жизни людей -характером социальным; подмена (фактическая или идеологическая) идеи нации так называемым "обществом". Сыграл при этом свою важную роль и фактор энергичного вторжения в жизнь европейских народов со стороны еврейства; для последнего, в силу понятных причин, именно культурно-национальный характер человеческой жизни был неприемлем, а экономически- социальный
- крайне удобен и выгоден 36. Именно под влиянием этих факторов произошла постепенно (и несмотря на противоборство ряда выдающихся европейских мыслителей) деградация самой идеи личности; под "личностью", "индивидом", "отдельным человеком" стала пониматься просто физическая особь, обладающая, по сути дела, лишь одним жизненным измерением - чисто физиологическим. Как следствие, многие, даже далеко не заурядные европейские мыслители обратились именно к проблеме "одухотворения общества", забыв о личности как первоисточнике духовности. Так, Фихте заявлял, что "отдельные личности совершенно исчезают перед взором философа и всё сливается для него в одну великую общину", или "человечество" [38]. Выступая, казалось бы, с иных, чем у Фихте, метафизических позиций, и знаменитый Артур Шопенгауэр объявил, что "принцип индивидуализации" является лишь "покрывалом Майи", вредной и мучительной иллюзией "разницы между своей личностью и чужой" [39]. И уже откровенно прикрываясь тем же примитивным представлением об отдельном человеке, стали проповедовать абсолютный коллективизм философы (а точнее, псевдофилософы) типа Сен-Симона и Огюста Конта; согласно последнему "единичный человек сам по себе или в отдельности взятый есть лишь абстракция", с чем восторженно согласился "наш" Владимир Соловьёв, предложивший за это предоставить Конту "место в святцах христианского человечества" [40]. С другой стороны, в стане европейских мыслителей XIX века, противостоявших этому напору коллективизма, оказались, наряду с настоящими (но не слишком "популярными") мыслителями, типа Г. Лотце, Мен де Бирана и Фихте-младшего (сумевшего отделить в наследии своего отца христианское зерно от плевел спинозизма), и куда более шумные, крикливые фигуры такие, как пресловутый "солипсист" Макс Штирнер (1805-1856) или уже упоминавшийся С. Кьеркегор, который отбросил серьёзный рационально-метафизический подход к проблеме человека, изображал личность человека как голую "экзистенцию", полностью лишённую всякой сущности ("эссенции"), духовных констант человеческой природы 37.На фоне этой ситуации, сложившейся в европейской философии к середине
XIX века, русская национальная философия удивительно быстро и ясно определила свою собственную основную позицию: преемственность ко всему действительно ценному в европейской метафизике (и прежде всего - к идее индивидуальной духовной субстанции); целостное раскрытие принципа самосознания, всех его измерений и уровней; творческое движение к подлинной метафизике человеческой личности, то есть философии, достойной своего христианского первоисточника. К этому обязывало русскую философию её назначение как философии народа, связанного с христианством всей своей исторической судьбою; народа, чьи корни уходили, к тому же, в общую с другими народами культурно-историческую почву. Но к этому же её располагал и особый национальный характер русского народа, для которого "душа всего дороже", как подчеркивал П.Е. Астафьев, видевший в этом убеждении "основной мотив и Православия, и самодержавия, и народности нашей" [41]. Конечно, этот мотив глубоко созвучен христианству; но чувство живой души (и в себе, и в другом человеке) присуще русскому человеку по его национальной природе 38; христианство же дает этому чувству верное направление — к источнику вечной жизни и спасения души, к Богочеловеку. Соответствует это особое чувство и общему настрою арийской расы; но и здесь есть различие. Когда-то не кто иной как убежденный сторонник "русского воззрения" Константин Аксаков заметил: "Германия есть страна, в которой развилась внутренняя, бесконечная сторона духа; из чистых рук её мы принимаем это общее, которого хранителем всегда была она" [42]. В этих эмоциональных словах есть правда, о которой мы уже говорили; но есть и явная неточность. Мы не приняли (то есть не взяли в готовом виде) германскую метафизику; под влиянием последней русская философия творчески создавала свою метафизику, где на первом плане стояла уже не "бесконечная сторона духа", а духовно-душевная конкретность "внутреннего человека" 39.Так или иначе, народ, наделённый такой глубокой интуицией внутренней жизни, был должен, рано или поздно, обратиться к философии, ибо "истинный предмет и здравой философии и русского мыслящего ума есть внутренний мир
" [44]. В течение многих столетий русский народ накапливал бесценный опыт души, опыт "внутреннего человека", а на путях святости, подвижничества - и опыт духовной личности. И теперь у него было что сказать о человеке, сказать на языке строгих философских понятий, чтобы в рационально-философской форме вполне овладеть своим собственным содержанием. При этом историческая реальность такова: в философии, в учении о самосознании человека, русским мыслителям выпал жребий "работников одиннадцатого часа" (Мф. 20:9): они приступили к делу тогда, когда решалась судьба христианской философии как таковой.Вот что необходимо ясно понять в вопросе о связи русской философии с философией европейской: первая пришла здесь не "с опозданием", а именно в решающий момент. В тот момент, когда европейская философия, с одной стороны, уже заложила, усилиями своих подлинных классиков, фундамент метафизического учения о человеке, осознала проблему человека (а не "абсолюта", "космоса" и т.д.) как собственную проблему философии. Но, с другой стороны, именно в этот исторический момент европейская философия испытала сильнейший удар сил, которые (одни сознательно, другие безотчётно) стремились утвердить ложный взгляд на человека
- ложный, то есть противоречащий и данным человеческого самосознания, и христианской интуиции человека. Вот почему отношение русских мыслителей к западной философии не могло быть однозначным; здесь необходимым образом соединялись "за" и "против", приятие одного и неприятие другого. Но критерий такого предпочтения русский мыслящий человек находил уже не вне себя, а в себе самом, в своей душе, в своей культурно-исторической судьбе, в своём христианском назначении.На основании этого критерия (все грани которого нам предстоит рассмотреть по возможности полно) русская философия избрала путь, который ретроспективно и в первом приближении можно определить как путь рационально-метафизического персонализма. Сейчас, в начале нашего исследования, такое, пусть и весьма сухое, определение совершенно необходимо, чтобы сразу выделить те черты русской национальной философии, которые в ней изначально присутствовали и сохранялись, хотя и соединялись, по мере развития, с другими, в каких-то отношениях не менее и даже более важными чертами. О правильно понятой рациональности (то есть основательности очевидности) настоящего философского знания мы уже говорили (и этот разговор будет, естественно, продолжен).
Ещё больше внимания мы уделим тому, чтобы уяснить метафизический пафос русской философии, тот пафос, который постепенно раскроет себя как пафос глубоко христианский. Наконец, вряд ли нужно доказывать, после уже приведенных суждений классиков русской философии, что последняя была существенно персоналистична, хотя предпочитала слово личность фиксации соответствующего этому слову "изма
" 40. О связи же между подлинным персонализмом и метафизическим пафосом русской философии ясно говорят слова В.И. Несмелова: "В изучении природного содержания человеческой личности мы получаем самое достоверное знание, что есть другой мир, кроме мира физического, и есть другое бытие, кроме бытия условного, потому что человек сам принадлежит к этому другому миру и в себе самом отражает это другое бытие" [47]. Впрочем, подчеркнуть с самого начала подлинный персонализм классиков русской философии нас побуждает и другое обстоятельство, которое, возможно, уместно упомянуть в заключение этого параграфа.В современной России развелось множеством "философов-персоналистов", искажающих и идею личности, и задачу самопознания человека вообще. Искажения здесь тоже многообразные; среди них одно из самых опасных
- разрыв связи между идей личности и идеей народности, между персонализмом и национализмом, между личным и национальным самосознанием. Но сейчас скажу о другой, более тривиальной разновидности лжеперсонализма (обычно, впрочем, она соседствует с первой, с денационализацией человека): о стремлении под маской "персонализма" лишить философию её строгой рациональной логики, превратив в "автобиографию философа", в "персоналистическую поэму", в занимательный рассказ "о путешествиях и странствиях авторского я" [48] * 41 .Что сказать о таком понимании персонализма? Собственно, оно свидетельствует об одном
- об отсутствии у автора философского склада ума; а уже отсюда проистекает смешение философии с "автобиографией" (пусть даже и "духовной"), с литературно-художественной формой самовыражения и так далее. Когда Сократ предложил считать отправным пунктом философии положение "я знаю, что ничего не знаю", то с точки зрения и "биографической", и даже "эстетической" он просто кокетничал. Но с точки зрения философской он высказал важнейшую истину самосознания; а именно, каждый человек, даже если он не знает о существовании чего-либо другого, абсолютно достоверно знает о своём собственном существовании, хотя бы в качестве "существа, которое ничего не знает". Для "персоналистической поэмы" это положение не даёт ничего; но для рационально-метафизического исследования здесь открывается настоящее проблемное поле философии. Чтобы увидеть это поле, необходимо, однако, занять именно философскую точку зрения, овладеть методом подлинного умозрения. В противном случае"персонализм" останется метафизически пустым (хотя и звонким, поскольку в пустоте вообще легко звенеть); а к соответствующему "персоналисту" будут вполне применимы саркастические строки Петра Вяземского:
Вот знатью так и пышет личность,
А если ближе разберёшь:
Вся эта личность и наличность
И медный лоб, и медный грош.
Путать метафизику личности с демонстрацией своей наличности
- занятие хотя и модное, но для настоящего персоналиста недопустимое.Я вполне отдаю себе отчёт в том, что затронутое сейчас различие между подлинным персонализмом и лжеперсонализмом понять достаточно непросто; собственно, глубокое различие между "моим я" и "моей жизнью" как раз и составляет один из актов трагедии самосознания. Этот акт останется в поле нашего зрения; но уже сейчас здесь можно сказать нечто достаточно важное. Нет человека, который был бы всецело доволен своей жизнью (в том числе и своей духовной жизнью); думаю даже, что для глубокого человека здесь естественно глубокое неудовлетворение. Но, с другой стороны, нет человека, который, серьёзно поразмыслив, захотел бы иметь другую жизнь. Зрелый человек ценит ту жизнь, которую он прожил; более того, он не согласится изменить в своём прошлом "ни единой йоты
" 42. Но почему? Конечно, не потому, что у него была именно такая жизнь; главное, что это была его жизнь, а не кого-то другого, не чужая жизнь. В глубине души я ценю мою жизнь именно как мою, какой бы она ни оказалась, как бы я её ни осуждал (точнее, как бы ни осуждал себя за такую жизнь). В этом, на мой взгляд, философское значение гениальных строк Александра Пушкина:И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы пью,
Но строк печальных не стираю.
Именно в выделенных сейчас словах выражается то непоколебимое достоинство, то "неизмеримо высокое значение" человеческой личности, которое столь остро чувствовал и ярко выражал Пушкин
- и которое классики русской философии сумели глубоко понять и строго обосновать 43.Но теперь возникает новый принципиальный вопрос, связанный с пониманием истории русской философии, вопрос, уже вполне внутренний для этой истории. Если русская национальная философия
XIX века связывала себя с христианским представлением о личности, если центральным онтологическим фактом был для неё факт Боговоплощения; короче, если она сознательно стремилась быть христианской философией - то почему возник роковой разрыв между нею и так называемой "религиозной философией" начала XX века? Почему автор данного исследования настаивает, что в лице "религиозной философии" русская национальная философия нашла своего непримиримого противника, сделавшего всё возможное, чтобы предать её забвению (или, что ещё хуже, извратить её основные интуиции и принципы)? Вот вопрос, в котором необходимо разобраться, насколько это возможно, ещё в начале данной книги. Попытаемся это сделать в следующем параграфе.Литература
/.
Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе - книга первая, СПб., 1887г., с. V.2.
Бердяев Н.А. Собрание сочинений, т.З - Париж, 1989 г., с.36.3.
Страхов Н.Н. Воспоминания и отрывки - СПб., 1892 г., с. 148.4.
Декарт Р. Сочинения, т.2 - М., 1994 г., с. 12.5.
Несмелое В. И. Наука о человеке, т.1 Казань, 1994 г. (репринт), с.114.6.
там же, т.2, с. I 29.7.
Киреевский И. В. Избранные статьи, М., 1984 г., с.260.8.
Лопатин Л.М. Положительные задачи философии, ч. 1 - второе изд., М., 1911 г., с. XV.9.
Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии -- СПб., 1886г., с. VII.10.
Страхов Н.Н. Мир как целое - второе изд., СПб., 1892 ?., с. IX.11.
там же. с. XIX.12.
Лопатин Л.М. Типические системы философии — Вопросы философии и психологии (далее: ВФиП), кн. 83, 1906г., с,290.13.
Бакунин П.А. Основы веры и знания - СПб., 1886 г., с.72-73.14.
Хайдеггер М. Время и бытие - М., 1993 г., с.22.15.
Chamberlain H.S. Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts, I Halfte Munchen, 1906, S. 369.16.
Бакунин П.А., цит. соч, с. V.17.
Лопатин Л.М. Положительные задачи философии, ч.2 - М., 1891 г., с.28.18.
там же, с. 48.19.
Лопатин Л.М. Аксиомы философии - ВФиП, кн. 80, 1905 г., с. 343.20.
Астафьев П.Е. Верп и знание в единстве мировоззрения - М., 1893 г., с. 133.21.
Спиноза Б. Избранные произведения, т.1 - М., 1957 г., с.403, 410, 427.22.
там же, с. 510.23.
Астафьев П.Е. цит. соч., с.89.24.
Лейбниц Г.В.Ф. Сочинения, т.1 - М., 1982 г., с. 162.25.
Страхов И.Н. Воспоминания и отрывки - указ. изд., с. 162.26.
Бердяев Н.А. О новом русском идеализме - ВФиП, кн.75, 1904 г., с.703, 708.27.
Бердяев Н. А. Самопознание-Л., 1991г., с.352.28.
Страхов Н.И. Философские очерки- второе изд., Киев, 1906г., с. 379.29.
там же, с. 378.30.
Лопатин Л.М. Теоретические основы сознательной нравственной жизни ВФиП. кн.5, 1890г., с.67.31.
Страхов Н.Н., цит. соч., с. 386.32.
Астафьев П.Е. Из итогов века - М., 1891 г., с.17.33.
там же, с.22.34.
там же, с. 35.35.
там же, с. 18.36.
Chamberlain H.S., op. с. it., S. 49.37.
Астафьев П.Е., цит. соч., с. 109.38.
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи - СПб., 1906 г., с. 12.39.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление цит по изд.: Антология мировой философии. т.З, М., 1971 г., с.700.40.
Соловьёв B.C. Собрание сочинений, т. VIII СПб., б.г., с.231, 245.41.
Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи - М., 1890 г., с. 34.42.
Аксаков К. С. О некоторых современных собственно литературных вопросах. - Вопросы философии. № 2, 1990 г., c.l 72.43.
Русское самосознание, № 3, 1995 г., с. 104 и далее.44.
Астафьев П.Е.. цит. соч., с.43.45.
Бобров Е.А. Этюды по метафизике Лейбница Варшава, 1905 г., с,6.46.
Козлов А.А. Густав Тейхмюллер - ВФиП, кн. 24-25, 1894 г.47.
Несмелое В. И. Наука о человеке, m.I -указ. изд., с. 368.48.
Аксючиц В.В. Под сенью Креста - М., 1997 г., с. 18.49.
Выбор. Литературно-философский альманах, М., 1990 г., с. 95.(продолжение следует)
Примечания:
1 Продолжение: начало в "Русском Самосознании". №4.
2 Здесь и далее (если не оговорено особо) в цитатах курсив первоисточника.
3 Много лет спустя В.В.Розанов вспоминал в одном из писем ещё более категорическое суждение Соловьёва о русской философии: она "меньше, чем небытие, ибо о небытии можно ещё размышлять, а о русской философии нельзя размышлять"[3]
4 Естественно, что такое возрождение русской философии может быть только творческим, не должно сводиться к голой "герменевтике" и комментированию давно написанных "текстов". И совсем не случайно сегодняшние поклонники B.C.Соловьёва среди "патриотов", замалчивая его откровенно русофобские высказывания, тем не менее, отрицают именно наши творческие задачи в философии, уныло повторяют пошлую "мудрость" изжившей себя эпохи: "Философия существует сегодня только как история философии" [6].
5 Достижения России девятнадцатого века в области точных и естественных наук достаточно полно отражает книга "Люди русской науки" под редакцией С.И. Вавилова, ОГИЗ, М.-Л., 1948 I.. тт. 1-2. Современный исследователь А.В. Ефремов сообщает, между прочим, любопытный факт: за свою оценку русской культуры "Соловьёв попал в ленинский план монументальной (антирусской - И. И.) пропаганды (в последнюю минуту вождь мирового пролетариата вычеркнул фамилию философа из этого списка)" [8].
6 Могут заметить, что и у Соловьёва было "всё нормально" в смысле происхождения (если оставить в стороне "рискованные" догадки Розанова). Но последнее ещё не гарантирует русского духа, о "полном отсутствии" которого у Соловьёва писал тот же Розанов [10]. Здесь мы имеем наглядный пример того, что дух не передается с "генами", как бы автоматически. Духовность человека тесно связана с его личным самоопределением, дух нельзя просто "получить", его надо свободно и сознательно принять (о "приятии" как важнейшей категории душевной жизни см. превосходную работу С.А. Аскольдова "Сознание как целое" - М., 1917 г.).
7 Вот почему в философии за истину отвечает только сам человек, отвечает за само содержание истины, а не только за её форму. Подробнее об этом принципиальном моменте мы будем, конечно, говорить ниже: см. также мою работу "Что такое --русская философия?' [12].
8 Лишь помня о том, что первично, прямо и непосредственно человек определяется самоотношением (а не отношением к другому), можно верно понять совершенно особое (по сравнению со всеми остальными существами) отношение человека к Богу; отношение, в котором самоотношение не отрицается, но раскрывается как нечто содержательное, перестает быть простой тавтологией "я есмь я". Этой проблеме и посвящена, в сущности, гениальная "Наука о человеке" В.И. Несмелова.
9 Предварительный анализ понятия "религиозная философия" будет проведён уже в этой главе (§4).
10 И не только в случае сознательной недобросовестности, а порою по причине элементарной неосведомлённости. В этом смысле весьма характерна добротная в других отношениях книга О.Е. Иванова "Самосознание как основа метафизики" (СПб., 1995). Её автор достаточно глубоко раскрывает значение принципа самосознания в западноевропейской философии; но в самом начале пытается (по-видимому, из лучших побуждений) связать свою проблему с философией русской. Однако настоящих русских метафизиков он попросту не знает; а потому вырывает пару "подходящих" цитат из B.C. Соловьёва и С.Л. Франка; затем сам же убеждается, что настоящее понимание принципа самосознания у данных авторов отсутствует; после чего благополучно забывает о русской философии до конца книги - о той русской философии, которая на деле даёт самый обширный материал для поднятой им проблемы!
11 Забегая вперёд, замечу, что принципами я называю те ключевые положения философии, которым соответствуют аксиомы в науке и догматы в богословии; подробнее см. ниже параграф "Крест познания: триединство науки, философии и богословия".
12 Естественно, что здесь сразу вспоминается архетип "самости" [das Selbsl], зафиксированный в аналитической психологии К.Г. Юнга (1875-1961), но по сути традиционный для индоевропейской метафизики в целом; см., например. Макс Мюллер "Шесть систем индийской философии" (М.„ 1995 г., с.84 и др.).
13 Напомним, что Сократ выразил принцип самосознания в словах, которые были начертаны на портале храма в Дельфах и приписывались "оракулу", голос которого звучал для греков эпохи Перикла из глубокой древности.
14 Для справедливости заметим, что и Михаил Никифорович Катков (1818-1887) начинал с философии; в молодые годы "главное внимание Каткова было устремлено на философию", отмечает его биограф [27]. Ещё до основания "Русского Вестника" (в 1856 году) он поместил в "Пропилеях" весьма интересную работу о древнегреческих софистах, вышедшую позже отдельным изданием: "Очерки древнейшего периода греческой философии" М., 1855.
15 Профессор Московского Университета И.И. Давыдов обычно проходит в "историографии" русской философии по разряду "ранних шеллингианцев". По сам Шеллинг - фигура крайне противоречивая, главным образом, по причине попыток соединить христианский теизм Лейбница с безличным "абсолютом" Спинозы (эту "двойственность" Шеллинга отмечает и Шпет). Несомненно, что в России "ранних шеллингианцев" привлекали именно спиритуалистические (или, по крайней мере, панпсихические) мотивы Шеллинга; поэтому здесь остаётся по сути верным утверждение П.Е. Астафьева, что "наиболее сродным русскому философскому характеру" является "философское учение славянина по происхождению Лейбница".
16 Вот почему русские мыслители, в отдельных случаях, не проводили резкой границы между сознанием и самосознанием; последнее является, в сущности, самим сознанием, сознанием как таковым, тем ядром сознания, которое определяет его цельность и связность всех его моментов.
17 Поразительная слепота Г.Г. Шпета к смыслу своего собственного историко-философского "текста" находит, в сущности, очень простое объяснение. Как добросовестный исследователь, он не мог не воспроизводить суждения, которые встречаются в русской философии буквально на каждом шагу. Но философские взгляды самого Шпета, сложившиеся под влиянием марбургского неокантианства и выросшей оттуда "феноменологии" раннего Э, Гуссерля, как раз и вращались вокруг отрицания принципа самосознания; ярким примером может служить работа "Сознание и его собственник", написанная в 1916 году, где Шпет настойчиво отвергает именно субстанциального "собственника" сознания, того "существа мыслящего", о котором писал В.Н. Карпов и другие русские философы. В силу этого становится ясно, что Шпет не хотел видеть в русской философии того, чего он не хотел видеть в действительности; предпочитал ограничить проблему самосознания (отрицать которую вообще просто невозможно) её чисто социально-политическими (по сути производными} аспектами.
18 Примером может служить столь популярная в настоящее время идея "соборности". Разговор об этой идее - впереди; но уже сейчас уместно отметить, что даже у А.С. Хомякова слово "соборность" практически не встречается в собственно философских работах! Позже о "соборности" более или менее обстоятельно размышляли С.Н. Трубецкой (на раннем этапе своего творчества) и С.Л. Франк (только в социально-философском исследовании "Духовные основы общества"). Вот, по большому счёту, и всё, если не считать пылкой "соборной" риторики поэта Вячеслава Иванова (открывшего, в конце концов, что по-настоящему "соборен" лишь католицизм). О том, что получается из попыток представить "соборность" ключевым понятием русской философии, можно судить по книге Л.Е. Шапошникова "Философия соборности. Очерк русского самосознания" (СПб., 1996 г.). В поисках вездесущей соборности автору приходится прибегать к постоянным натяжкам и оговоркам: "Идейное наследие Розанова не содержит специальных работ, посвящённых анализу соборности, да и сам этот термин он употребляет достаточно редко" (с.60); "В творческом наследии Флоренского нет специальных работ, непосредственно посвящённых соборности" (с.112) и т. д. и т. п. Характерно и то, что термин "самосознание", попав в подзаголовок книги, нигде в ней не рассматривается...
19 Упоминавшийся ранее С.А. Левицкий и своей книге "Трагедия свободы" (1958 г.) обошёл творчество классиков русской философии тем же молчанием, что и в своём "историографическом" сочинении. А в итоге читатель получил очередное "доказательство" того, что всё подлинно метафизическое и трагическое внесла в учение о свободе только западноевропейская мысль; эпизодические ссылки на В.С. Соловьёва (повторявшего здесь идеи Шеллинга и Шопенгауэра) и "корифеев ренессанса" (типа Н.А. Бердяева, подхватившего уже на Западе мотивы экзистенциализма) обшей картины никак не меняют.
20 О творчестве этого немецкого мыслителя (англичанина по происхождению), создавшего масштабную культурно-историческую концепцию, значение которой более существенно, чем внушительные, но поверхностные построения О. Шпенглера, А. Тойнби и других, можно прочесть в журнале "Русское самосознание" (№1, 1994).
21 С.Н. Булгаков увидел эту печать на челе германского идеализма, которому, собственно, и посвящена его работа "Трагедия философии" (1927 г., на немецком языке). Но в силу своей марксистской (иначе фарисейской) закваски Булгаков узрел здесь "печать Каина" и задался целью объяснить, как надо избавить философию от её трагичности. Именно этот замысел и лишает его книгу (в ряде отношений весьма интересную) настоящей философской ценности.
22 В связи с этим Н.Н. Страхов очень верно определил самый тип "исключительного" рационализма: "люди, стремящиеся к полному рационализму, обыкновенно отличаются лишь тем, что больше других отрицают и сомневаются". Почему именно такая характеристика является наиболее точной, мы увидим чуть ниже; заметим также, что таких "полных рационалистов" ещё лучше называть резонерами.
23 О влиянии Э. фон Гартмана и особенно О. Конта на "теософию" B.C. Соловьёва мы будем говорить уже в следующем параграфе. Что касается учения Дарвина, то его сугубо иррациональный характер блестяще раскрыл Н.Я. Данилевский; отметим, что с основными положениями капитального труда Данилевского "Дарвинизм" можно познакомиться по статьям Страхова, вошедшим в "Борьбу с Западом" (второй выпуск, второе издание. 1890г.).
24 Что касается семантических игр , в которых признаётся рациональность , но отвергается "рационализм" (подобно тому, как сегодня говорят положительно о "национальности", но отрицательно о "национализме"), то их оценку я предоставляю читателю; заодно предлагаю ему решить, как можно отстаивать идеалы, полностью отвергая идеализм, или бороться за. монархию, осуждая монархизм.
25 Заметим, что упрёк в "формализме", в "логическом крючкотворстве" и т.п. можно легко найти в трудах ряда западных церковных историков - в адрес Восточной Церкви! Последняя, мол, вела "бесплодные споры" о букве "йота" (которой только и отличаются греческие слова "единосущие" и "подобносущие"), вместо того, чтобы решать "живые задачи христианства" ...Мы вообще склонны называть "внешним", "формальным" и т.д. всё то, внутренний смысл чего нам не понятен.
26 Возможно, что уже сейчас нелишне уточнить (дабы избежать слишком упрощённого представления о метафизике): речь идёт о переходе от актуально или потенциально данного к тому, что принципиально не может стать непосредственным данным моего сознания ( таково, в частности, чужое сознание).
27 Упомянутый выше лжерационалист, или резонёр, как раз и не владеет искусством положительного обоснования; поэтому он способен только сомневаться, отрицать и спорить, причём бесплодно, поскольку для плодотворного спора, как отмечал П.А. Бакунин, необходимо сначала выяснить "общее основание, которое признается обеими (сторонами) за бесспорную истину" [13].
28 Сказанное не отрицает, конечно, факт внутреннего конфликта в существовании человека; конфликта, глубокие размышления о котором мы найдём практически у всех классиков русской философии. Но подлинное понимание этого факта должно быть свободно от противоречия - иначе это уже не понимание.
29 Понятие "модернизма" в философии будет обстоятельно раскрыто позже, в связи с феноменом философского модернизма в России начала XX века; сейчас достаточно понимать модернизм как противоположность классического, всего, что имеет непреходящую ценность и сохраняет своё значение "в руинах времени", по выражению Г. Г. Гадамера.
30 Поистине хрестоматией ложной метафизики является "Этика" Спинозы; отметим сейчас лишь некоторые из её "аксиом", "теорем" и т.п.: "сущности человека не присуща субстанциальность"; "душа познаёт себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела" (!); "такие модусы мышления, как любовь, желание и всякие другие так называемые аффекты" и т.д. [21]. Впрочем, нормальному человеку становится всё ясно из одного знаменитого определения любви у Спинозы: это "наслаждение, сопровождаемое идеей внешней причины" [22].
31 Наряду с соответствующими разделами данного исследования см. мою вступительную статью к книге С.А. Аскольдова "А.А. Козлов" - СПб., 1997г.
32 Нельзя не отметить, однако, что большинство классиков русской философии явно недооценивало идеи гениального ирландского философа Дж. Беркли (хотя его основная работа "Трактат о принципах человеческого познания" была переведена на русский язык по инициативе и при участии Н.Г. Дебольского). Но это говорит лишь о том, что и в этом аспекте традиция русской философии не является законченной, ждёт своего творческого продолжения. Сегодня мы должны укреплять и углублять связь со всем подлинным в европейской философии как прошлого, так и настоящего.
33 Непонимание этого момента стала источником серьёзных онтологических ошибок у Н.О. Лосского, который объявил "субстанциальными деятелями" даже структурные единицы материи (например, электроны): заметим, что и Лосский очевидным образом заимствовал ключевые элементы своих метафизических построений у тех же классиков русской философии, но, в отличие от Бердяева, всячески замалчивал факт этого заимствования.
34 Заодно Страхов отмечает, что подобная точка зрения (которую позже энергично проводил, например, Зеньковский) характерна для католицизма и его идеологов; в качестве примера Страхов называет знаменитую энциклику папы Льва XIII "Aeterni Patris" (1879), которая объявила обязательным для всех философов-католиков учение Фомы Аквинского (1225-1274). Замечу, что сегодня ряд авторов, говорящих от лица Православия, весьма привлекает идея провозгласить таким же "высшим авторитетом" для православных философов поздневизантийского богослова и церковного деятеля св. Григория Паламу (1296-1359), сделать "паламизм" православным эквивалентом "томизма". О бесплодности такой идеи (подражательность которой очевидна) мы будем говорить в связи с вопросом о роли святоотеческого наследия в русской философии (опознав сначала реальное присутствие этого наследия в творчестве русских мыслителей).
35 У столь близкого Астафьеву Лейбница мы ещё не находим этого разделения понятий; как уже отмечалось, для Лейбница "один дух стоит всего мира", и хотя это высказывание является глубоко христианским по своему основному смыслу, философски его нельзя считать достаточно точным. Также и Беркли в указанной работе постоянно употребляет слово "дух" как синоним личности.
36 Астафьев цитирует определение задач "общества" одним из активных сторонников "эмансипации" еврейства: "организация жизни во имя производства и распределения жизненных благ между составляющими его особями" [37].
37 Характерно, что сегодня в России переизданы сочинения только этих авторов (а конкретно Кьеркегора - чуть ли не "советскими" тиражами), тогда как труды подлинных родоначальников христианского персонализма в Европе остаются неизвестными.
38 Неслучайно это чувство проявляется порою особенно резко у людей без настоящих христианских убеждений или с весьма амбивалентным отношением к христианству; вспомним так поразившее Розанова стихотворение Некрасова "Еду ли ночью по улице тёмной"; вспомним "несчастного Радищева" или, наконец, специфическую "задушевность" советского искусства, поскольку в нём выражалось настроение русского человека.
39 Поэтому русской национальной философии был чужд и "антипсихологизм", существенно затронувший немецкую мысль, и учение о "духе как противнике души", в стиле Людвига Клагеса (об этом мыслителе см. [43]).
40 Нелишне отметить, что термин "персонализм" ввёл в философию Густав Тейхмюллер (1832-1888) - немецкий философ, работавший в России, в Дерптском Университете (см. [45]), а вовсе не те европейские авторы (Ш. Ренувье, В. Штерн в начале XX века), которых называют современные справочники. Добавим, что творчеству Г. Тейхмюллера придавал исключительно важное значение А.А. Козлов, посвятивший ему, в частности, обширную статью [46].
41 Образец такого "персонализма" процитированный сейчас современный автор (В.В. Аксючиц) нашёл, по собственному признанию [49], в книжке Бердяева "Самопознание"; с этим сочинением, многократно переизданным за последние годы, полезно познакомиться, чтобы узнать, каким не должно быть философское самопознание.
42 Поэтому истерическое требование к Богу "сделать бывшее не бывшим" (Л.И. Шестов-Шварцман) тоже является ярким примером настроения, характерного для лжеперсонализма.
43 Можно вспомнить также известные слова поэта: "клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал". Их философский смысл тот же самый: желание иметь другую историю своего отечества и народа - это, по сути дела, желание не быть самим собою, а это страшнее, чем иметь "плохое" отечество и принадлежать к "плохому" народу. И ещё: на примере Пушкина мы лишний раз убеждаемся в нерасторжимости личного и национального начал в человеке.