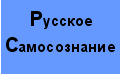Николай Калягин
Чтения о Русской
поэзии
Чтение 3
Мы с вами
остановились в прошлый раз на событии печальном,
хотя и естественном, – на смерти Александра
Петровича Сумарокова, которая последовала в 1777
году.
Это середина царствования Екатерины II. Время,
ознаменованное стремительным ростом русского
могущества и военной славы, ростом авторитета
России как мировой державы.
В известной Французской Энциклопедии
Д'Аламбера и Дидро имеется статья, посвящённая
России (это 14-й том, вышедший из печати в 1765 году).
Статья нисколько не устарела, русский читатель и
сегодня почерпнёт из неё много неожиданных
сведений о своей родине.
Так, впервые узнает он о том, что
христианство ввела у нас в конце X века княгиня
Ольга. „Женщины, – пишет Жокур, автор статьи, –
более чувствительные к увещеваниям служителей
религии, обращают затем и прочих людей".
Впрочем, „русская церковь была столь
малообразованна, что брат Петра Великого царь
Федор был первым, кто ввёл в ней церковное
пение". Слово „царь", кстати, произошло по
мнению тех же энциклопедистов от „цар" или
„тхар" Казанского царства; когда русский
государь Иоанн (правильнее – Иван Базилид)
победил это царство, он взял его титул. Нам
сообщают далее, что излюбленным кушаньем русских
(то есть, до Петра Великого) были лишь огурцы и
астраханские арбузы, которые летом они варили с
водой, мукой и солью. Для царской женитьбы
привозили ко двору из провинции самых красивых
девушек. Были четыре примера подобных свадеб. С
того времени русские женщины стали румяниться,
подрисовывать брови или накладывать
искусственные; таким образом, у этого народа
варварство стало исчезать, и потому Петру не
нужно было много трудиться над просвещением
нации. В царствование Петра русский народ стал
цивилизованным, торговым, любознательным в
искусствах и науках, ценителем театра и новых
изобретений. Совершивший эти перемены великий
человек счастливо родился в благоприятное для
этого время – и так далее, и тому подобное.
Думается, что „острый галльский
смысл" вполне обнаружил себя в той части
статьи, которую мы успели просмотреть, – но
интересно другое. Мы увидели, что в 1765 году вот
этой проблемы, вечной проблемы „Россия и
Запад", – её как бы и не существует. Авангард
прогрессивного человечества („сок умной
молодежи", по более счастливому выражению
Репетилова), энциклопедисты весьма и весьма
доброжелательно относятся к России. По их мнению,
страна сумела сделать правильный выбор – сурьма,
румяна и Великий Человек вывели её на столбовую
дорогу цивилизации, в то время как во Франции
милой не всё обстоит благополучно: имеется тиран,
Людовик XV,
кое-где поднимает голову религиозный фанатизм.
Сам Вольтер стал жертвой этого фанатизма и этой
тирании – почти год целый просидел в Бастилии, –
в то время как из России ему шлют приглашения и
подарки, тёплые шубы шлют...
В 1765 году Россия
чем-то милее французским просветителям, чем даже
собственное отечество. Что же произошло между 1765
годом и годом 1831, когда Пушкин спокойно и
квалифицированно оценил отношение Запада к
России одной строкой: „И ненавидите вы нас"?
Но пока – пока мы
видим, что оптимизм лучших людей реформы, вот это
намерение, о котором мы говорили в прошлый раз:
позаимствовать у Запада его боевые хитрости и
ими отстоять веру (от его же натиска), – пока это
оправдывается. По крайней мере, в первой своей
части.
А как обстоит дело со второй частью?
что вера? Каково положение Церкви? – Попытаемся
под этим углом взглянуть на реформу и проследить
её ход.
Пётр I – личность, которую невозможно (да и не
нужно) идеализировать. Упразднение
патриаршества, чудовищный Духовный регламент,
оскорбление религиозных чувств народа,
растянувшееся на десятилетия, – всего этого уже
не вычеркнешь из истории Церкви.
Дисциплина – под таким знаком
проходила эпоха Петра, и Церковь как организация
была подчинена дисциплине, была поставлена на
службу Государству, как всё в государстве.
Церковь как организация пострадала, безусловно;
но Церковь не есть просто организация, до поры до
времени существующая наряду с другими какими-то
организациями. Церковь Христову погубить вообще
нельзя: так, в рассматриваемую нами эпоху
симпатия к протестантизму царя-рационалиста и
латинская ориентация высших иерархов Церкви
ослабили, обезвредили одна другую, и Церковь
устояла. Но и Петр не Венадад, не Сеннахирим – не
сильный враг, одним словом, которому вот только
Бог не позволил разрушить Свою Церковь.
Вспомним столкновение Петра со
святителем Митрофаном, епископом Воронежским.
Царь пригласил епископа к себе, а тот отказался
придти, поскольку воронежский дом Петра I был украшен
снаружи изображениями языческих богов. – Царь
приходит в ярость и угрожает епископу смертью,
Митрофан отвечает: „Лучше умереть, чем
присутствием своим или боязливым молчанием
одобрять язычество. Неприлично Государю
православному ставить болваны и тем соблазнять
простые сердца народа," – и начинает
приготовляться к смерти. Царь, заслышав
благовест в неурочное время, посылает узнать, что
случилось. Ему сообщают: „Епископ собирается
напутствоваться ко смерти". – Царь
приказывает снять статуи.
Когда святитель с миром отходит ко
Господу, царь спешит на его погребение, боится
опоздать... Сам участвует в переносе тела в
усыпальницу. Сохранились слова, сказанные Петром
при прощании: „Не осталось у меня такого святого
старца, буди ему вечная память".
И.А. Ильин писал: „Есть мера страстных
эксцессов царя, – не подрывающая доверия к
нему," – и считал, что Пётр I эту меру не перешёл. Не
превысил. В поступках Петра – страшных
поступках, жутких, – вызванных болезненной
нетерпеливостью, неуравновешенностью, грубостью
натуры, не было, однако, ничего бесчестного,
лживого, подлого н своекорыстного (это всё ещё
мысль Ильина), и народ, скорбя или негодуя,
продолжал всё-таки доверять такому Царю в
главном.
Выжив при Петре, Церковь смогла
отдохнуть в царствование его дочери. Елизавета
Петровна чтила память своего великого отца; в то
же время она, по выражению Е. Поселянина
(известного церковного писателя и историка
Церкви, расстрелянного у нас в Ленинграде в
начале 3О-х годов, была „предана Церкви, всем её
обрядам, как любая боярышня московской Руси".
Поэтому при Елизавете всё шло более или менее
по-старому: заводила ли она Московский
университет, посещала ли Василия Болящего (был
такой юродивый на Арбате) – и в том и в другом
случае она следовала традиции. "Не нами
заведено, не нами и кончится".
На вершину могущества и славы Россия
поднялась в царствование Екатерины II – Екатерины Великой. Права её
на этот титул не должны подвергаться сомнению,
дар правительницы был у неё, безусловно, от Бога;
самые её недостатки шли на пользу делу
управления.
Имея многие слабости, о которых
незачем здесь распространяться, Екатерина могла
понять и простить слабость подданного (чего не
было у железного Петра) – она была человечна. За
это её любили и нередко делали для неё
невозможное, „небывалое". Идеалист Пётр не
щадил для Отечества своей жизни, того же ждал от
других – и снова и снова разочаровывался в людях.
Ближайшие сотрудники обманывали его на каждом
шагу, стоило только Петру на секунду отвернуться.
Практичная Екатерина придерживалась принципа
„живи – и жить давай другим",
разочаровываться в своих сотрудниках ей никогда
не приходилось. (Это они в ней иногда
разочаровывались, но потом, после окончания
своей миссии.)
Екатерина настолько была умна, что и
людей, обладавших высокими нравственными
принципами (св. Тихон Задонский, Румянцев,
Суворов, Дашкова, Державин и др.), умела привлечь
на свою сторону и использовала их энергию на
пользу своему „маленькому хозяйству". Чужое
здоровье не вызывало у неё головной боли –
редкое, похвальное качество! Можно предположить,
что непрактичность вышеназванных славян
вызывала у бывшей принцессы Ангальт-Цербтской
лёгкую усмешку, которая и спасала её от зависти.
Екатерина не погрешала против
внешнего благочестия (в отличие от Петра),
уважала религиозные чувства простого народа и –
так же в отличие от Петра – вовсе, кажется, не
верила в Бога. Церковная политика Екатерины
заключалась в том, чтобы „растворить
духовенство в среднем слое людей", оттеснить
его на задворки социальной жизни.
Вы помните, конечно, страстный призыв
Вольтера: „Раздавите гадину!" – Впрочем, в
минуты мирного расположения духа тот же Вольтер
признавал, что для простонародья церковь долго
ещё будет полезна, и поэтому, „если бы бога не
существовало, его следовало бы выдумать". Вот
эти два тезиса и были, пожалуй, положены в
основание церковной политики Екатерины. „И бога
выдумать, и гадину раздавить".
Совсем не случайно „Наказ"
Екатерины подвергся цензурному запрещению в
Англии и Франции. То, что в самой Франции было
остроумной теорией, кабинетной выдумкой горстки
энциклопедистов, в России становилось
правительственной программой.
Верная ученица французских
просветителей, Екатерина в 1764 году наносит
страшный удар просвещению народа русского. В
этот год были введены штаты: императрица одним
росчерком пера уничтожила 754 монастыря. От общего
их числа сохранилась после указа только пятая
часть.
Эта мера принесла государству три
миллиона рублей в год. Не так уж мало. Ведь
годовой доход Российской короны составлял к
началу 60-х годов не более тринадцати миллионов
(по оценке той же Французской Энциклопедии,
которой в таких вопросах доверять, я думаю,
можно).
А что отняла у государства эта мера?
Тоже немало. Монастырь – с XI века и до настоящего
времени – это и есть русский университет.
Традиции, культура, народное образование,
национальное самосознание – всё тут. Зарождение
любой обители, её рост или упадок – процесс
органический и таинственный. Вторгаться в эту
область извне, пытаться „улучшить монастырское
дело" с помощью грубых административных мер...
Ну, это было очень самонадеянно.
А вот и другая сторона вопроса.
Монастырская собственность складывается веками
и состоит большей частью из добровольных
вкладов, из пожертвований самых разных людей –
на помин души. С упразднением монастыря,
естественно, прекращается и поминание. То есть
вот этим своим знаменитым росчерком пера русская
императрица, „крайний судия Духовной
Коллегии", нарушила последнюю волю
неимоверного числа русских православных людей.
Век Просвещения. Императрица
управляет государством, а ею управляет Разум,
освобождённый от пут суеверия. Что такое
„последняя воля"? на хлеб её не намажешь. А три
миллиона в год – деньги хорошие.
Однако не все люди способны подняться
до уровня лучших умов своей эпохи, дышать
разреженным воздухом горных вершин. Ростовский
митрополит Арсений (Мациевич) в Неделю
Православия, когда предаются анафеме враги
Церкви, кое-что изменил и добавил от себя в тексте
анафематизмов. Там, где в обычном
чинопоследовании стояло: „Вси насильствующии и
обидящии св. Божии церкви и монастыри, отнимающи
у них данныя тем сёла и винограды..." – мятежною
рукой Ростовского владыки было добавлено: "...И
через то воплощения Христова дело и бескровную
жертву истребляющий". Ещё и другие два
добавления (но менее важные, менее
антиправительственные) были им сделаны и
возглашены с амвона в феврале 1763 года. Спустя
девять лет бывший митрополит Арсений умер в
каземате Ревельской крепости, где содержался под
чужим именем – наподобие Железной Маски.
„Раздавите гадину" – это ведь общее
положение. В одном случае, под каблук прогресса
могла попасться гадина Мациевич, во втором или
третьем – другие какие-то гадины. Наполеон
раздавил гадину Пия VI-го. Особенно много гадин
скопилось во Франции к началу революции; не
хватало ног, чтобы давить их. Человеческий разум
справился и с этой задачей: священников грузили
на баржи, потом топили эти баржи в Луаре, в Сене.
За год до смерти Андрея Враля (бывшего
митрополита Арсения) в литературе произошло
событие, отмеченное во многих учебниках: Михаил
Матвеевич Херасков написал поэму „Чесмесский
бой", повествующую о трогательной дружбе
братьев Орловых, Алексея и Фёдора,
разворачивающейся на фоне знаменитого морского
сражения, – и тем самым положил начало
сентиментализму в русской поэзии.
Наверное, вы почувствовали сейчас
некоторый диссонанс, несоответствие между
важным, трагическим содержанием, которым
наполнена русская жизнь XVIII столетия, и содержанием
литературы. Там – сотрясаются основы народной
жизни, своды вселенной колеблются, здесь – в
пробирочке что-то изготавливается для будущих
филологов...
Розанов, оценивая литературу XVIII века в целом,
писал, что это была не литература, а так –
"помощь правительству". Давая эту
примечательную характеристику, Розанов вовсе не
имел в виду какую-то сервильность, лакейскую
услужливость литературы. Нет. Но мир середины XVIII века, вообще,
чёрно-белого цвета: чёрное – невежество и
суеверия, белое – человеческий разум.
Просветительская философия выработала идеал
просвещённого монарха, теорию просвещённого
абсолютизма, и вот литература помогает
правительству приблизиться к идеалу, „истину
царям с улыбкой говорит", подсказывает
невыученный урок бедняге царю, тупице и
двоечнику. Понятно, что если какой-нибудь
конкретный правитель на волосок отступил от
теоретического идеала, то это уже не
просвещённый монарх, а тиран, которого всякий
может зарезать, не испытывая угрызений совести.
И уничтожение 80% русских монастырей –
с точки зрения интеллектуальной элиты того
времени – мера настолько оправданная,
необходимая и выстраданная, что можно только
сказать правительству: „Мерси," – и дальше,
дальше – ориентировать его на новые цели,
подталкивать к новым свершениям.
За пять лет до введения штатов, во
время затяжной и кровопролитной войны, которую
Россия вела против Пруссии Фридриха Великого,
Сумароков переводит басню Лафонтена
„Отрекшаяся мира мышь":
Затворник был у них
(т.е. у мышей, которые воюют с лягушками),
и жил в голландском сыре;
Ничто из светского ему на ум пойдёт;
Оставил навсегда он роскоши и свет.
Пришли к нему две мышки
И просят, ежели какие есть излишки
В имении его,
Чтоб подал им хотя немного из того,
И говорили: „Мы готовимся ко брани".
Он им ответствовал, поднявши к сердцу длани:
„Мне дела нет ни до чего.
Какия от меня, друзья, вы ждите дани?"
И как он так проговорил,
Вздохнул и двери затворил.
Здесь мы впервые сталкиваемся с
явлением, которое впоследствии, в России
Советской, получило наименование сигнала.
Елизавета Петровна не пожелала прислушаться к
сигналу Сумарокова, и через три года уже
Ломоносов принимается переводить ту же басню,
сигнализируя новому правительству о
неблагополучии в церковных делах:
Мышь некогда, любя святыню,
Оставила прелестный мир,
Ушла в глубокую пустыню,
Засевшись вся в голландский сыр...
Ломоносов – сын своего века. Ломоносов
тоже просветитель. Он патриот, безусловно, но
Россия его од – это уж никак не Святая Русь, а
что-то скорее географическое, с просторами,
недрами и минералами, с трудолюбивым и
талантливым народом, который со временем
неизбежно произведет собственных Платонов и
Ньютонов, быстрых разумом. (А интересно, что почувствовал
бы Ломоносов, если бы какой-нибудь Хромой Бес,
выскочивший из склянки во время очередного
химического опыта, показал ему будущее – показал
первого русского, в котором западный мир признал
ровню другим мировым гениям, – и Ломоносов
увидел бы бородатого Льва Толстого, шьющего себе
сапоги и весь мир зовущего к опрощению, к ручному
труду... Наверное удивился бы Михайло Васильевич.)
Ломоносов и Сумароков, враждовавшие во
всем, в жизни и в поэзии, неожиданно оказываются
союзниками в делах более важных, чем поэзия или
частная жизнь. Но об этой вражде скажем все-таки
несколько слов отдельно, она того заслуживает.
Михаил Дмитриев рассказывает (по
семейным преданиям) следующее: "Ломоносов, как
учёный, занятый делом, как человек серьёзный, а
притом не богатый и не дворянского рода, не
принадлежал к большому кругу, как Сумароков.
Ломоносов был неподатлив на знакомства и не имел
нисколько той живости, которою отличался
Сумароков и которою тем более надоедал он
Ломоносову, что тот был не скор на ответы.
Ломоносов был на них иногда довольно резок, но
эта резкость сопровождалась грубостью; а
Сумароков был дерзок, но остёр: выигрыш был на
стороне последнего! Иногда, говорил мой дед, их
нарочно сводили и приглашали на обеды, особенно
тогдашние вельможи,
с тем, чтобы стравить их".
Достаточно серьёзный конфликт, как мы
видим: человек глубокий, напряженно думающий об
общем благе, заглядывающий вперед на сто, на
двести лет, и человек тонкий, старающийся
быстротечную минуту закрепить и возвести в перл
бытия, совершенно искренне презирают один
другого. Культура и этика – так называется эта
проблема на современном жаргоне. Разлучение их
рождением некультурной этики и бессовестной
культуры есть неизбежное следствие
секуляризации.
Что происходит у нас сегодня на каждом
углу? Вот честный патриот поднимается на трибуну
и начинает говорить, например, о вреде пьянства,
говорит пламенно и бессвязно, предлагает
какие-то меры для решения этой наболевшей
социальной проблемы – достаточно дубовые – а
среди слушателей, с тонкой улыбкой на устах,
стоит эрудит, мастер художественного слова, и в
уме готовит пародию на выступление честного
патриота. Профессионализм пересмешника связан
со „стремлением ко благу" патриота, зависит от
него, питается его эмоциями, но полученную
энергию использует для разрушения.
Эрудит из нашего примера не
заслуживает серьезного разговора
(бессодержательность – недостаток, от которого
почти невозможно избавиться), но и патриоту
следовало бы принять к сведению чеканную формулу
Гегеля „Форма столь же существенна для сущности,
как сущность для себя самой". Недостаточно
пылать, обожать, негодовать, нужно быть в Церкви.
Церковная дисциплина строга, церковная культура
неимоверно сложна, но если вы справитесь с этим и
войдете в Церковь, то ваши прекрасные чувства
обретут разделение, ваша любовь к отечеству
принесёт сочный плод. А метать сомнительного
достоинства бисер перед несомненными свиньями –
занятие пустое.
Русский человек XVIII столетия ещё связан пуповиной
с матерью Церковью, но первые плоды насаждаемого
сверху расцерковления уже созрели.
Государственный ум Ломоносова видит в
монастырях, главным образом, помеху деторождению
(Россия же мало населена, и детей надо бы
побольше); образцовый вкус Сумарокова не
оскорбляется подобной прямолинейностью.
Сумарокову претит только „учёность" и
„надутость" Ломоносова, смешного своей
простонародной серьёзностью и чином коллежского
советника, полученным за какие-то химические
опыты, – в то время как Сумароков был
естественен, прост и был действительный статский
советник. А на его трагедию „Синав" имелся
официальный похвальный отзыв Французской
Академии.
Закончим на этом разговор о Ломоносове
и Сумарокове. Поговорим об их учениках.
Любимым учеником Ломоносова был
Николай Поповский, один из талантливейших людей
своего времени, ставший в двадцать шесть лет
профессором Московского университета.
В истории литературы имя Поповского
осталось, главным образом, благодаря переводу
"Опыта о человеке" Александра Поупа. Этот
перевод выдержал пять изданий в XVIII веке и имел солидный, прочный
успех – успех у серьезного читателя, который
покупает книгу не для того, чтобы быть „на
уровне" или „в курсе", а чтобы проверить
свои жизненные правила и, если удастся, улучшить
их. Спустя сто лет, герои Лескова – чудаки,
"русские праведники" – помнят ещё перевод
Поповского, иногда и наизусть. Это произведение,
что называется, пошло в почву.
Познай, что всё добро, которым человек
Здесь может в временный сей наслаждаться век,
Всё то, что Сам Творец и щедрая природа
Приуготовила к веселию народа,
Все те приятности, что мысли веселят,
Все сладости в сих трёх вещах лишь состоят:
В потребах жития, во здравии телесном,
Потом в спокойствии надежном и нелестном...
Здоровая, бодрая, достаточно
примитивная философия английского
просветительства, сумевшего избегнуть некоторых
крайностей запятнавших континентальную его
разновидность. К. Леонтьев писал по этому поводу:
„Атеистически-либеральное движение умов
началось в Англии, но общечеловеческий вред
причинило это направление только через
посредство Франции XVIII века".
Кроме Поупа, Поповский переводил
Горация (и осуществил, с помощью Ломоносова,
первый русский стихотворный перевод „Искусства
поэзии" – на двадцать втором году жизни), писал
оригинальные поэтические произведения в
наиболее ответственном в то время жанре
похвальной оды. Но в целом, поэтическое наследие
Поповского невелико – до тридцатилетнего
возраста ему приходилось разрываться между
научной и педагогической деятельностью,
выкраивая для поэзии крохи свободного времени, –
а там смерть положила конец всем его трудам.
Иван Семенович Барков – очень
колоритная личность, тоже сын священника (как и
Поповский), тоже в какой-то степени ученик
Ломоносова. Именно по просьбе Ломоносова
шестнадцатилетний Барков был зачислен в
Академический университет; Барков и потом бывал
у „российского Пиндара" в доме: Ломоносов
давал ему заработать перепиской. Случайно или
нет, но бесконечные ночные кутежи перестали
сходить Баркову с рук именно после смерти
Ломоносова – из Академии, где он имел должность и
твёрдый оклад, Барков был сразу же уволен и через
два года умер, тридцати шести лет от роду. Чем он
жил эти два года, отчего и как умер – неизвестно.
Барков один, но в нескольких лицах. Он и филолог,
публикатор (именно Баркову было доверено первое
издание сатир Кантемира, осуществленное в 1762
году, а увольнение прервало его работу над
подготовкой к печати „Повести временных лет"),
он же и переводчик, академический переводчик,
создавший русскую версию "Басен" Федра и
„Сатир" Горация; наконец, Барков – это Барков,
то есть поэт-порнограф, именно в этом качестве
приобретший всероссийскую известность.
Нужно заметить, что „Барков" – имя
собирательное, что сочинения, имеющие хождение
под этим именем, написаны большей частью в XIX веке, и вот наш
Барков, Иван Семенович, их не писал. Он умер в 1768
году, время ещё патриархальное, простодушное;
всего шесть лет прошло после появления указа о
вольности дворянства – и особенной изощрённости
в этом вопросе достигнуто не было. Не успели.
Барков писал пародии – на Сумарокова,
в первую очередь, – и излюбленный его приём
заключался в следующем. Сочинялась элегия
(идиллия, ода), отвечавшая самым строгим
требованиям тогдашних образованности и вкуса, но
в которой на месте лирического героя выступала,
скажем так, определенная его часть. И когда какая-нибудь
такая часть, специфически мужская, начинала
жаловаться на разлуку, а часть женская заводила в
ответ: "Не грусти, мой свет, мне грустно и самой,
/Что давно я
не видалася с тобой," – ну, современники очень
веселились.
Пародирование серьёзных литературных
жанров, их перелицовка – это то, что всегда
происходит в литературе, достигшей известной
степени зрелости; успех пародии свидетельствует
о прочности той литературной системы, внутри
которой пародия появилась. Пародия смешит до тех
пор, пока в читательском восприятии жив её
„второй план", и сегодня подлинный Барков
никому не интересен, поскольку сегодняшнему
интеллигенту, воспитанному на Высоцком и
Макаревиче, неизвестны трагедии „Семира",
„Тамира и Селим", классическая ода
ломоносовского стиля, сумароковская элегия...
Современный интеллигент недостаточно образован
для того, чтобы понимать Баркова.
А виноват ли Барков в том, что его имя, в
котором есть всё же что-то симпатичное для
русского слуха, чёрт использовал для циклизации
чужих порнографических сочинений?
Наверное, виноват. Благодаря этому
имени, жидкая грязь получила привлекательную
фабричную обертку, а главное – появился
прецедент, дающий возможность пакостить открыто
и безнаказанно, со ссылкой на академическую
традицию... Порнография, когда это всерьёз, одно
их самых тяжёлых и нудных занятий на свете;
Барков, который в жизни был человеком весёлым и
лёгким, бессребреником, симпатичным неудачником,
после смерти оказался запряжён во вражью работу
и послужил началам, по видимости противоположным
основным чертам своей натуры. Бывает и такое. „На
грех мастера нет."
Баратынский в одном из последних своих
созданий выразился очень проникновенно (хотя и
трудно было бы, я думаю, найти Отца Церкви, у
которого Баратынский почерпнул эту мысль, – сам,
наверное, выдумал):
Велик Господь! Он милосерд, но прав.
Нет на земле ничтожного мгновенья.
Прощает Он безумию забав,
Но никогда – пирам злоумышленья.
Как будто бы нарочно про Ивана
Семеновича Баркова написано: никаких „пиров
злоумышленья" в его жизни не было, зато уж
„безумия забав"...
Известно, что люди богатые и праздные
нередко забавляются от скуки, „с жиру
бесятся". Барков веселился в условиях бедности
– вопиющей пожизненной бедности.
Будем надеяться, что Бог его простил.
Барковские „срамные оды" метили в
человека, которого Барков уважал, которому
многим был обязан, – но, ради красного словца,
уважение и благодарность должны были
потесниться, – они метили в Ломоносова.
Вот небольшой отрывок из „Оды
кулашному бойцу" (одно из немногих сочинений
Баркова, которое возможно, хотя бы частично,
цитировать):
Хлебнул вина, разверзлась глотка,
Вознесся голос до небес,
Ревёт во мне хмельная водка,
Шумит дубрава, воет лес,
Трепещет твердь и бездна бьется,
Далече вихрь в полях несется.
Восторгом я объят великим,
Кружится буйно голова... –
дальше идет неудобное для цитирования
место, а затем ещё один отрывок:
Науки, ныне торжествуйте:
Взошла Минерва на престол.
Пермесски воды, ликовствуйте,
Шумя крутитесь в злачный дол.
Вы в реки и в моря спешите
И нашу радость возвестите
Лугам, горам и островам:
Скажите, что для просвещенья
Повсюду утвердит ученья,
Создав прекрасны храмы вам.
Конечно, вы заметили, что я в ходе
чтения соединил стихи Баркова со стихами
Ломоносова. Но вообще-то они похожи, на слух, если
не вдумываться. А как раз в оду вдумываться не
обязательно; ода – не аналитический жанр, здесь
важны воодушевление, чувство...
Восторг Ломоносова и торжество в
природе, им описанное, имеют причиной восшествие
на престол Екатерины Алексеевны; Барков
воодушевлён национальным напитком – и тоже
природа этому его приподнятому настроению
соответствует. Смешно, современники это
чувствовали. Ломоносовская ода была отправлена в
печать на десятый день после дворцового
переворота, завершившегося убийством Петра III-го. Ломоносов
спешит прославить Екатерину за то, чем она должна
стать. А должна она стать Минервой,
покровительницей наук, создательницей новых
учебных и научных учреждений. Входит ли это в
планы Екатерины, совершенно не важно. Ломоносов
„истину говорит" императрице: напоминает ей о
долге, об обязанностях просвещённой
правительницы перед Богом и людьми.
А Барков тоже ведь ничего не имеет
против наук, против Екатерины, – он, как шалун в
классе, передразнивает своего строгого учителя,
отвернувшегося на минуту к доске, и смешит
товарищей. Какая у шалуна корысть? Заметит
учитель его проделки – задаст нахлобучку. Зато
для товарищей этот смех – разрядка, передышка,
обновляющая саму способность восприятия,
притупленную зубрежкой полезных истин.
(Интересно, что сам строгий и мудрый учитель
Баркова, Ломоносов совершенно хладнокровно
относился к барковским пародиям и, повторимся,
неизменно покровительствовал их автору. Вот
Сумароков – тот обижался всерьёз и постоянно
писал на Баркова жалобы.)
Плохо, когда в классе большинство
учеников – шалуны. Ещё хуже, когда пошаливают
сами педагоги (что в современной литературе
становится правилом), – это уже не школа, а дом
терпимости. Но в нормальной школе всё именно так
и должно быть, как было во времена Ломоносова и
Баркова – знающий, строгий учитель, прилежные
ученики, один-два шалуна.
Разум необходим, знания бывают
полезны, но ведь и товарищество, весёлый нрав,
насмешка над собой, вино, которое „на радость нам
дано", – тоже вещи неплохие. Без них и само
просвещение может опротиветь.
Бесчеловечен дух просветительской
философии. В царстве разума не предусмотрено
место для маленьких человеческих радостей. А
слабости человеческие, неизбежные наши немощи и
падения, в которых мы каемся на исповеди,
признаются в царстве разума или подлежащими
окончательному исправлению (вплоть до
гильотины), или, что ещё страшнее, оправдываются.
Оздоровление общества с помощью
гильотины – дело недалёкого будущего. А пока что
эстетика просветительства даёт первую трещину, и
в эту трещину проникает грязь. На сцену выступает
сентиментализм.
Руссо с предельной искренностью
раскрывает перед читателем некоторые
патологические стороны своей богато одарённой
натуры – и беда только в том, что он не кается, он
простодушно полагает, что все люди таковы, святых
не бывает, а вот за искренность, за новое слово
как не поставить самому себе жирную пятёрку?!
Дидро – тот просто любит грязь, любит забраться в
неё по уши и находит эту позицию оригинальной,
смелой, во всех отношениях прогрессивной.
И как тут не сказать ещё два-три слова в
защиту Баркова? Понимаете, он не боролся с
предрассудками, не оказывал Человечеству важную
услугу. Он просто писал непристойные пародии,
прекрасно сознавая их непристойность. Он
дурачился – на свой страх и риск. Что поделаешь,
есть и такая
традиция в классической поэзии. У Катулла об этом
сказано так: „Сердце чистым должно быть у поэта,
но стихи его могут быть другими".
Короткое царствование Петра III, столь
благоприятное для Баркова (он написал "Оду на
всерадостный день рождения его величества
благочестивейшего государя Петра Феодоровича,
императора и самодержца всероссийского" и
получил должность академического переводчика с
годовым окладом в двести рублей), ознаменовалось
событием, чрезвычайно важным для судеб русской
поэзии. Я имею в виду, конечно же, появление
знаменитого указа о вольности дворянства.
Сословие, обладавшее значительными привилегиями
за свою службу государству, этим указом от
обязательной службы освобождалось – и сохраняло
привилегии. Манифест от 18 февраля возвестил
благородному Дворянству на вечные времена
свободу и вольность. (Предполагалось, что дворяне
и без принуждения будут продолжать службу.)
Добровольное служение, слов нет,
предпочтительней принудительного. Но как раз в
этом и заключался коренной недостаток
просветительского сознания, – ему
представлялось, что учение о первородном грехе
порождено своекорыстным суеверием, а человек,
вообще, добр, и так только – заблуждается иногда
вследствие „неблагоприятных внешних условий"
(ошибки в воспитании, дурная социальная среда,
невежество и т.п.); и стоит только создать
благоприятные условия, указать правильный путь
– естественный человек так и зашагает по нему, не
оглядываясь и не останавливаясь.
Мы помним, как истолковала указ г-жа
Простакова: „Дворянин, когда захочет, и слуги
высечь не волен? – Да на что ж дан нам указ-от о
вольности дворянства?" Алексей Орлов тоже мог
руководствоваться буквой указа, когда душил
Петра III.
Остановимся на том, что указ развязал
руки многочисленному и талантливому сословию –
как для хорошего, так и для дурного. И в русской
истории время между 18 февраля 1762 и 19 Февраля 1861 –
золотой век дворянской культуры.
Об учениках Ломоносова мы с вами
говорим уже долго, хотя люди эти мало жили, мало
писали и от того, что именуется у нас сегодня
"коридорами власти" были бесконечно далеки.
Ученики Сумарокова, напротив, жили
долго, писали много, в литературе (да и не только в
ней одной) были сильны и влиятельны. Говорить о
них, правда, неинтересно, но и молчанием их не
обойдешь – сумароковцы слишком уж заметное
место занимают в истории литературы.
Херасков. Сын знатного молдавского
боярина, переселившегося в Россию в 1712 году
вместе с Дмитрием Кантемиром. Будущему поэту
исполнился год, когда боярин умер; Херасков рос и
воспитывался в семье отчима, известного знатока
и покровителя литературы князя Н.Ю. Трубецкого.
Десяти лет был отдан в кадетский корпус, где
Сумароков как бы заведовал в это время
литературной частью (неофициально, в свободные
от службы часы), – и так и стал, с десяти лет,
учеником и последователем Сумарокова.
Жизнь Хераскова связана с Москвой, с
Московским университетом. Он был его куратором,
заведовал университетской библиотекой, газетой,
был директором университетского театра.
Херасков – патриарх московской литературы,
покровитель и опекун Фонвизина, Ржевского,
Богдановича. Видный масон. Создатель эпических
поэм „Россиада" и „Владимир", о которых
Дмитриев отозвался таким образом:
Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют;
Хераскову они вреда не принесут!
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья приведут!
Современники называли Хераскова
просто: русский Гомер.
Ржевский – вельможа, сенатор, член
Академии. Тоже масон. Виртуозно владел
стихотворной формой, дружил с Державиным, издал
на свои деньги „Душеньку" Богдановича –
благородный поступок (с коммерческой же точки
зрения – оправдавшийся риск).
Богданович – тоже академик и чиновник
(председатель Государственного Архива). Его
"Душенька" произвела переворот в
литературе: впервые были опоэтизированы милые
женские безделушки, „булавки" и
"платьица"; впервые явился характер не
героический, не трагический, а просто живой –
характер русской девушки, простодушной, верной и
доброй.
Василий Майков – соратник Хераскова и
Новикова, автор „Елисея", которого молодой
Пушкин „читал охотно" и в котором, впервые в
официальной литературе, отразилась жизнь
городских трущоб. Кстати сказать, единственный
поэт своего времени, не знавший иностранных
языков, – поэтому умник Дидро именно от поэзии В.
Майкова ждал чудес оригинальности и
национальной самобытности. После смерти Дидро, в
его библиотеке было обнаружено изрядное
количество книг В. Майкова, вывезенных философом
из России, но оставшихся, разумеется,
неразрезанными. (Это своего рода традиция: лучшим
умам Запада оценочные суждения о России, о
русской культуре даются несравненно легче, чем
изучение русского языка или хотя бы знакомство с
элементарными фактами нашей истории.)
Яков Борисович Княжнин, „переимчивый
Княжнин", зять Сумарокова и сам знаменитый
драматург, друг Потёмкина и Бецкого, русский
Расин, тиранобор...
Впрочем, пора остановиться. И
постараться от послужных списков деятелей
литературы второй половины XVIII века как-то возвратиться опять
к литературе, к поэзии. Обратиться, например, к
стихам Богдановича. Если вы их не читали прежде и
вот только сегодня вечером, наслушавшись моих
рассказов, впервые раскроете „Душеньку", то,
скорее всего, выроните книгу из рук на четвертой
странице и уснете.
Чудесные иллюстрации Ф.П. Толстого к
„Душеньке" и сегодня радуют глаз; рядом с ними
текст этой „древней повести в вольных стихах"
выглядит именно „древним", устаревшим:
Хотя ж гулянье по лесам
Особо Душенька любила
И после каждый день ходила,
Со свитой и одна, к тенистым сим местам,
Но в сей начальный день не шла в густые рощи,
Иль ради наступившей нощи,
Или, не зря дороги в лес,
Боялась всяких там чудес,
Иль нежные в ходьбе её устали ноги;
И Душенька оттоль пошла назад в чертоги.
Не стану представлять
Читателю пред очи
Приятны сны её в последовавши ночи;
Он сам удобно их возможет отгадать, –
тут прямо видишь подмигиванье автора и
встречный благодарный оскал читателя, они друг
друга понимают – речь идет о ночах брачных:
Но дни бывали там причиною разлуки,
И дни, среди утех, свои имели скуки.
По слуху говорят,
Что Душенька тогда пускалася в наряд;
Особо же во дни, когда сбиралась в сад,
Со вкусом щеголих обновы надевала... –
мы прочли полстраницы, в „Душеньке"
их около восьмидесяти. Но повествование так и
тащится страница за страницей – монотонно, вяло,
утомительно. Невольно вспомнишь отзыв Катенина о
„Душеньке": „Она хороша была в свое время, но
останется ли такова на все времена? Краски ни
греческие, ни римские, шутки часто подлые, а стихи
весьма нечистые," – и отметишь про себя, что
Катенин, как обычно, прав.
Мы понимаем умом, что когда-то подобный
интерес к бытовым деталям, некоторый
психологизм, попытка привязать душевные
состояния, душевные движения героини к реалиям
быта – всё это было ново и сенсационно. Но
сегодня мы имеем несравненно более совершенные
образцы бытовой психологической прозы.
Также и сердца зоилов давно перестали
ныть от зависти к Хераскову, хотя племя зоилов не
перевелось. Русского Гомера забыли на удивление
быстро. Уже Карамзин, щеголяя своей всему свету
известной объективностью, хвалил иногда
следующие стихи Хераскова:
Как лебедь на водах Меандра
Поет последню песнь свою,
Так я монарха Александра
На старости моей пою, –
и этим вызывал почтительное изумление
у своих слушателей: какой святой человек
Карамзин! У самого Хераскова отыскал четыре
приемлемых стиха, сумел похвалить даже
Хераскова... Вяземский в 1821 году отзывается о
Хераскове совсем уже просто: „Он не худой
стихотворец, а хуже".
Сказать несколько слов в защиту
Хераскова, наверное, нужно. Начнем издалека, с
небольшой цитаты из книги Б. Зайцева о Жуковском:
"...Лирическая наша поэзия, России XIX
века, родилась близ Белева из легких строф
молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в
лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не
был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен.
Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и
меланхолия".
Воздыхание, нежное томление, элегия
воцарились в русской поэзии ещё со времен
Тредиаковского и Сумарокова; меланхолией,
действительно, заразили её сентименталисты,
Карамзин и Дмитриев, но впервые в русской поэзии
этот „новый, прекрасный звук" является именно
у Хераскова:
Иной стихи слагает
Пороками ругаться;
А я стихи слагаю
И часто лиру строю,
Чтоб мог моей игрою
Понравиться любезной.
Утрата любви, „смерть, когда любовь
теряем", страшат поэта больше, чем „другая
смерть", физическая; утешения дружбы едва-едва
смягчают горечь этой утраты:
Томным шествием приходит
Дружба к помощи моей;
На любовь она походит,
Но огня не вижу в ней.
Дружбой, дружбой восхищаюсь!
Ей теперь иду вослед;
Но слезами обливаюсь,
Что утехи прежней нет.
Вообще же, при сравнении Хераскова с
Карамзиным и Жуковским обнаруживаешь немало
общего. Сочетание личной мягкости,
доброжелательности, терпимости с верностью
строгим моральным принципам отличало каждого из
них. Причём, строгость у наших поэтов начиналась
и заканчивалась на себе, а отношение к другим,
особенно к младшим, граничило нередко с
попустительством.
Когда Вяземский в 1816 году бросает
упрёк арзамасцу- отступнику:
Любви призыву ты не внемлешь,
Но в клире нравственных певцов
Перо Хераскова приемлешь, –
то здесь неприязнь к Хераскову и
неприятие нравственности как таковой до того
тесно сплетаются, что их не разделить.
Впрочем, как ни относись к Хераскову,
ясно одно: в русской литературе после смерти
Ломоносова что-то не так, что-то неблагополучно.
Стремительный взлёт российской
государственности в век Екатерины сопровождался
и расцветом искусств. В архитектуре, в живописи, в
музыке является целое созвездие первоклассных
мастеров: Старов, Растрелли, Бортнянский,
Левицкий, Шубин. И всем казалось, что литература
тоже находится на высоте, отвечает моменту. Это
потом уже, при Пушкине и Гоголе, настало время
журнальных статей, начинающихся словами „бедна
русская литература" или „литературы у нас ещё
нет..." – а в екатерининскую эпоху русские
Гомеры, русские Вергилии роились и встречались
на каждом шагу, книги их раскупались, звание
литератора было одним из наиболее уважаемых в
обществе. Едва успев посеять, все устремились на
жатву.
Высокий общественный статус
литературы в век Екатерины, как мы уже говорили,
способствовал действительному её расцвету к
началу царствования Николая I. Но искусственная выгонка
русских вергилиев и гомеров, форсировка,
завышенная оценка наличной литературы неизбежно
должны были вызвать в следующем уже поколении
движение встречное, вызвать реакцию.
Пересмотр литературных репутаций
начался в 1815 году, когда родился „Арзамас", а
молодой критик Строев в своём журнале „открыл
пальбу на Хераскова"; в 1833 году Н. Полевой уже
отвергает скопом „всех этих Сумароковых,
Херасковых, Петровых, Княжниных, которые не
писали бы, если бы не читали написанного прежде
их другими". К тому же времени относится и
известный нам отзыв Плетнёва о Сумарокове:
„Неутомимый говорун и пересказчик".
Действительно, сумароковцы были
только пересказчики чужого, и их творчество,
заслоняя от нас своим классическим фасадом "неученую",
"неизящную" российскую действительность,
выглядит сегодня разновидностью потёмкинской
деревни. Тем не менее, дело своё они делали:
русское стихотворство понемногу крепло,
наращивало мускулы.
Среди читателей-поэтов, перечисленных
Н. Полевым, только Петров сумароковцем никогда не
был. И вот о нём, о Василии Петрове, стоит
поговорить отдельно.
Последователь Ломоносова, сын
священника (и его, как Поповского и Баркова, как
самого Ломоносова, отличало от людей круга
Сумарокова основательное знание древних языков),
этот славный поэт целиком уже принадлежит веку
Екатерины, и судьба его довольно типична для
этого царствования.
Петров рано лишился отца. Учился
самостоятельно – дома, под присмотром матери.
Умерла и мать. Шестнадцатилетний Петров забрал
свою долю наследственного имущества – кусок
войлока, способный служить постелью, – и
перебрался в Заиконоспасский монастырь. „Тёмные
монахи" разглядели в юноше исключительные
способности; Петров был принят в
Славяно-греко-латинскую академию, а по окончании
– оставлен при ней учителем. Преподавал риторику
и синтаксис.
И вот в тридцать лет никому не
известный преподаватель пишет „Оду на
карусель", Екатерина эту оду читает – и
следуют все положенные в таких случаях чудеса:
присылка Петрову золотой табакерки с двумя
сотнями червонцев, вызов ко Двору, дозволение
носить шпагу (личное дворянство), двухлетняя
командировка в Англию для пополнения
образования, дружба Потёмкина, вражда Сумарокова
и Василия
Майкова („Елисей" – это, в первую очередь,
отталкивание от стиля Петрова, пародия на
Петрова – пародия, кстати сказать, и на Вергилия,
которого Петров переводил, и на саму любовь
Дидоны к Энею), вражда Новикова, заявившего
печатно, что муха больше походит на слона, чем
„нескладные и наудачу написанные" сочинения
Василия Петрова – на ломоносовские оды; смерть
Потёмкина, которую Петров искренне оплакал:
Что смерть как жизни край? и жизнь как путь ко
смерти?
Тот жил, кто имя мог за жизнь свою простерти.
Твое на целую ты вечность распростер:
Ты ковы чуждых стран, ты гордых варвар стер,
Науки ободрил, чин воинства устроил,
Россию оградил, расширил, успокоил...
---
Ты в поле кончил дни, хотяй почити мало:
Воинский плащ твой одр, и небо покрывало.
Не слышен был твой стон, не слышен смерти вздох;
Взор к небу обращен, куда тя позвал Бог, –
и наконец, известие о смерти Екатерины,
потрясшее Петрова настолько, что с ним случился
удар, от последствий которого старому поэту уже
не суждено было избавиться.
Репутация Петрова на сегодняшний день
незавидна. Придворный одописец, „карманный
стихотворец" Екатерины – лизоблюд, одним
словом. Уподобление Василия Петровича мухе, по
крайней мере, картинно – советские
литературоведы отыскали для характеристики
петровских од такие слова, которым место скорее в
обвинительном акте, чем в научной статье.
"Квазиломоносовская трескотня од В.
Петрова" (Лотман), "ода Петрова представляла
интересы правящей верхушки" (Г. Макогоненко),
"крайняя степень падения оды" (Г.
Макогоненко).
Подобные оценки,
как вы понимаете, больше говорят об
исследователе, о его эпохе, о его пристрастиях,
чем об исследуемом поэте. Петров имел своего
читателя в прошлом (и весьма квалифицированного:
Катенин, Пушкин отзывались с уважением о его
творчестве, Дмитриев находил в его одах
"обилие мыслей и силу", даже Вяземский –
строгий, придирчивый, "привязчивый"
Вяземский – и тот обмолвился однажды похвалой:
"...пламенный Петров, порывистый и сжатый"),
Петров и в будущем может найти своего читателя. И
не исключено,
что через сто лет именно „загадка Лотмана",
„тайна Макогоненки" привлекут вдумчивого
исследователя и лишат его покоя: да что ж это за
люди такие были, Господи, что им поэма „Русские
женщины", „Стихи о советском паспорте",
песня „Над седой равниной моря..." и другие однодневки больше
нравились, чем „Ода на карусель"?
Прочтите Петрова сами (если достанете,
конечно, – последнее отдельное издание его
сочинений вышло в 1811 году), и вы убедитесь, что это
– мастер стиха, сочетавший эмоциональность,
приподнятость, нередко и силу, присущую
ломоносовским одам, с такими синтаксическими
ухищрениями, прихотливостью, намеренными
архаизмами, которые советское литературоведение
приписывает влиянию Тредиаковского и которые, с
большим основанием, можно было бы объяснить
общим для двух поэтов-поповичей влиянием языка
Церкви.
И вот это хитросплетение слов, живущих
и играющих в железном корсете ломоносовского
стиха, способно производить чарующее
впечатление на читателя. Оправдывать же близость
Петрова ко Двору, истолковывать в каком-нибудь
превратном свете его естественные и красивые
монархические чувства – во всем этом, по-моему,
нет необходимости.
Писатель Эренбург рассказал в своих
воспоминаниях, что Ю. Тынянов собирался
„объяснить" известные пушкинские стихи 31-го
года ("Клеветникам России", "Бородинская
годовщина") – очень может быть, что и для
Василия Петрова отыщется со временем такой Ю.
Тынянов, который его "объяснит" и
"оправдает". И окажется, что Петров –
вопреки своим убеждениям, вопреки своей вере –
был крупным поэтом. Что стихи Петрова –
„глубже" или „шире" того, кто их написал.
"Прочитывать заново старого
поэта", т.е. приспосабливать его к современным
вкусам, – дело нехитрое и, вообще говоря,
прибыльное. Но надо стараться, по мере
возможности, придерживаться более чистых
источников дохода.
Петров, как Ломоносов, как Сумароков,
как пока что и все русские писатели, – с веком
наравне, и старательно переводит оду г-на Тома
"Должности общежития". Но у него самые
должности (т.е. обязанности) общежития описаны с
таким поэтическим огнем, что невозможно их
спутать с "должностями" более поздних наших
поэтов, уязвленных гражданской скорбью или зудом
обличительства. Василий Петров и в общежитии
остается Василием Петровым:
О, срам и студ Европы всей,
Плачевна наших дней судьбина!
Любезна должность гражданина
Забвенна ныне у людей!
Источник общих благ и сила,
Священна титла, что родила
Великих свету душ, увы!
У нас презреннее плевы...
- – -
А ты, натуры отщетясь,
Народных бегая соборов
И кроясь в темноте затворов,
Прервал с собой всю мира связь.
Сквозь знаки на лице угрюмы
В тебе бесплодны видны думы;
Без упражнения и дел,
О, как твой дух оледенел!
Для русского уха есть всё же что-то
магнетическое в словах „век Екатерины".
"Сравнивая все известные нам
времена России, едва ли не всякий из нас скажет,
что время Екатерины было одно из счастливейших
для России, едва ли не всякий из нас пожелал бы
жить в нем," – писал хладнокровный,
здравомыслящий Карамзин.
А романтик Н. Полевой дал веку
Екатерины следующую яркую характеристику:
„Отнимая целые царства у Стамбула, Екатерина, не
боясь, слышала шведские выстрелы под самым
Петербургом, крепкою рукою задушила безумную
ярость Пугачёва, ослепила всю Европу блеском
побед и великолепия, уничтожила Польшу,
коснулась скипетром берегов Америки, рассыпала
мильоны между подданными. Окружённая роскошью,
вкусом, великолепием, умом Европы, людьми, каковы
были Потёмкин, Румянцев, Суворов, Безбородко,
Вяземский, Орлов, Шувалов, Бецкий, Папин, –
Екатерина казалась полубогиней. Её путешествие в
Крым, когда
римский император и польский король встретили её
среди избранного европейского общества, среди
толпившихся ей на сретение изумленных её
подданных, среди грома и пышности, и когда она, с
улыбкой говоря спутникам о взятии Царяграда,
указывая на безмерные свои области прибавляла:
"Моё маленькое хозяйство идёт очень
порядочно," – вот характеристика двора и века
Екатерины".
„Роскошь, вкус, великолепие" – три
слова, которые к поэзии Петрова приложимы вернее,
чем к какому-либо другому литературному явлению
той баснословной поры. Чтобы сегодня воспринять
эту поэзию, требуются усилия, требуются кое-какие
знания, – но это не невозможно.
„Ода на карусель" (первый её
вариант) остаётся, пожалуй, лучшим созданием
Петрова; и атмосфера того давнего праздника,
действительно великолепного, может быть нами,
хотя бы отчасти, почувствована прямо сейчас,
здесь, на этом месте:
Убором дорогим покрыты,
Дают мах кони грив на ветр;
Бразды их пеною облиты,
Встает прах вихрем из-под бедр:
На них подвижники избранны
Несутся в путь, песком устланный;
И кровь в предсердии кипит
Душевный дар изнесть на внешность,
Явить нетрепетну поспешность;
Их честь, их царский взор крепит.
Но что за красоты сияют
С гремящих верха колесниц,
Что рук искусством превышают
Диану и её стрелиц? –
а это, после торжественного вступления
в амфитеатр всех четырех кадрилей, начались
„дамские на колесницах курсы":
Подняв главу из теней мрака,
Позорищный услышав шум,
Со устремленьем томным зрака
Стоит во мгле смущённых дум
Бледнеюща Пентезилея,
Прискорбный дух и вид имея,
Прерывным голосом рекла:
„Все б греки в Илионе пали,
Коль сии б девы их сражали;
Ручьями б кровь их в понт текла
И тщетно было б то коварство,
Что плел с Уликсом Диомид:
Поднесь стояло б Трои царство
И гордый стен Пергамских вид..."
Вслед Пентесилее, Василий Петров
выводит для нас „из теней мрака" Салтыкова и
Репнина, славного Миниха, который в свои
восемьдесят три года был главным судьей
каруселя; выводит братьев Орловых:
Подобный здесь царю пернатых
Полет в героях вижу двух,
Желанием хвалы объятых,
Подвижнических мзды заслуг.
Сияя видом благородным,
Являют вдруг очам народным
Соперничество и родство...
Г. Макогоненко особенно возмущался
тем, что ломоносовский стих, ломоносовские
образы используются Петровым для описания
всего-навсего „конного состязания перед лицом
императрицы". Это-то и есть предел падения оды.
„Ломоносов, славя подвиги русских воинов,
которые под предводительством Петра превратили
Россию в могучую державу, сравнивал их с
героическими римлянами. Петров использует это
сравнение, чтобы показать „римский дух"... в
братьях Орловых, отличившихся на карусели."
Возмущение Макогоненко очень забавно.
Всему свету известно, что братья Орловы
отличались не только на каруселе. А обычай
воспевать досуги героев, описывать подробнейшим
образом их успехи в различных метаниях,
единоборствах, конных состязаниях был хорошо
известен уже во времена Гомера. Приписывать
Петрову изобретение этой традиции – большая, но
и чрезмерная все-таки честь.
В своей Хотинской оде Ломоносов десять
раз упоминает Анну Иоанновну, проживавшую
постоянно в Петербурге, и совсем не говорит про
Миниха, хотя именно Миних руководил войском,
бравшим Очаков и Хотин. В „Оде на карусель"
Петров не просто показывает нам престарелого
фельдмаршала, который „лавры раздаёт" особо
отличившимся спортсменам, но и вспоминает
прежние его победы – именно они придают
настоящий вес карусельным лаврам.
Что же касается до „римского духа в
братьях Орловых", то Петров, действительно, в
одном месте своей оды сравнивает Григория Орлова
с Децием и Камиллом. Только вряд ли он вычитал это
сравнение у Ломоносова: просто Григорий Орлов на
каруселе 16 июня возглавлял „римскую" кадриль,
соответственно этому был и одет. Орлов Алексей
командовал в тот день кадрилью „турецкой" –
Петров и сравнивает его с Измаилом,
родоначальником агарян, что не означает,
наверное, присутствия в братьях Орловых
специального турецкого духа.
Замечу попутно, что у меня вызывает
белую зависть повышенное самочувствие многих
наших литераторов, позволяющее им взирать сверху
вниз на Орловых, Потёмкина, на саму Екатерину...
Какой-нибудь Зощенко, едва возвратившись из
позорной поездки по Беломорскому каналу, садится
и пишет про Графа Алексея Григорьевича Орлова
(называя его попросту „Алешей"): „Будь он жив,
мы били бы его в морду при первой встрече." –
Приятное самообольщение... Орловы, потомки
стрельца Адлера, который на плахе поразил Петра I своим
хладнокровием и был царём помилован, с чувством
страха знакомы вообще не были. А Алексей Орлов
ещё и шестерку разогнавшихся коней останавливал
одною рукой. Так что не очень понятно, какая у
мнительного, слабонервного Зощенко могла быть с
ним „первая встреча". Впрочем, Орлов держал
для бедных дворян открытый стол, за который
садилось нередко по сто человек – вот туда мог бы
ещё попасть автор „Рассказов о Ленине". А
дальше столовой ему нечего было делать в доме
Орлова, да его бы и не пустили дальше.
Много пишут сейчас про возрождение
духа Древней Эллады в России XIX в. (московские и
петербургские салоны – „северные Афины",
Пушкин-Протей, Периклес-Чаадаев, Баратынский –
„счастливый образец изящности афинской",
Алкивиад-Леонтьев и проч.) – ничего этого не было
бы и не могло бы быть без Екатерины и Петра, без
великолепного Потёмкина, без флотоводца,
духовидца, цареубийцы Алексея Орлова с его „греческими
глазами" и „повелительной красотой всего
колоссального его вида". Дочь-молитвенница
раздала миллионы для облегчения загробной его
участи; оградить имя отца от мышиных диверсий
отважных советских литераторов оказалось не в её
власти.
Птица Минервы вылетает в сумерках;
веку мудрецов и поэтов необходимо должен
предшествовать век героев – таков именно и был
русский XVIII
век.
„Ода на карусель" заканчивается
славословием, от которого дух захватывает у
современного читателя, не привыкшего к открытому
и свободному исповеданию монархических чувств:
Средь многих божеству приличеств,
Екатерина новый путь
Открыла достигать величеств,
Свой дух вливая в верных грудь.
Как солнце в целом светит мире,
Всем виден блеск в её порфире,
Без ужасу своих громка,
Без гордости превознесенна,
Без унижения смиренна,
Без всех надмений высока.
Благополучен я стократно,
Что в сем живу златом веку...
Хорошо. Отложив книгу, замечаешь, что
чтение тебя освежило и укрепило, что ты
встряхнулся, обновился – как будто и в самом деле
побывал на площади перед Зимним дворцом,
протискивался там между зрителями, крутил
головой, волновался:
Я странный слышу рев музыки!
То дух мой нежит и бодрит...
Действительно, хорошо. И как-то даже
удивительно вспоминать о том, что Петров,
скромный московский учитель, не мог быть на
представлении 16 июня и описал петербургский
„великолепный карусель" заочно.
Интересно, что Державин в
стихотворении 96-го года, посвященном „исполину,
который удержал те нравы, какими древний век
блистал" (то есть, посвященном все тому же
Алексею Орлову), подступался к изображению
„каруселя", память о котором и через тридцать
лет была жива, но ничего запоминающегося создать
не сумел.
В. Петров ушёл последним из той славной
плеяды стихотворцев-поповичей XVIII столетия (Тредиаковский,
Поповский, Дубровский, Барков, Костров), чьи
заслуги в деле русификации российской поэзии
трудно переоценить. У сумароковцев была
рассудочность, иногда – рассудочная
сентиментальность, живое тепло было только у
поповичей.
„К чему бесплодно спорить с веком?"
– Что-то полезное можно было перенять у Вольфа и
Баттё, даже у г-на Тома, даже у Вольтера и Б.
Франклина, – но важно было при этом не сорваться
с тысячелетнего корня, устоять на нём, сохранить
себя. И выходцам из духовного сословия,
коренного, исконно русского, до поры до времени
это удавалось. Строя лиру на чужеземный лад, они
сохраняли внутреннее равновесие, благодушие,
благоволение к миру – сохраняли, короче говоря,
почву под ногами. Русскую почву.
А что же благородное дворянство? Как
распорядилось оно дарованной вольностью и чем
одолжило во второй половине XVIII века русскую поэзию?
В это время жил в России человек,
дворянин, которому принадлежит выдающаяся роль в
развитии национальной поэзии, хотя писал он
немного и особенно крупным поэтом не был. Я
говорю сейчас про Николая Александровича Львова.
Теоретик искусств, эрудит, арбитр
изящного (Безбородко, собирая свою знаменитую
коллекцию, почти ничего не приобретал без совета
Львова), аристократ, вельможа (в царствование
Павла – тайный советник), крупнейший архитектор
и строитель, рисовальщик, поэт, переводчик,
театральный и музыкальный деятель, издатель
народных песен – вот далеко не полный перечень
талантов и заслуг этого сверхъестественно
одарённого человека.
Необычайной была прелесть его лица,
образцовой – семейная жизнь. Но наш разговор,
вообще, не о дарованиях. Таланты Бог раздает, и, по
справедливому суждению Молчалина, „свой талант
у всех". В конечном счете, не так уж важно, что
именно получил ты при рождении даром –
поэтический талант или горб на спину. Важно лишь
то, как ты распорядился полученным.
Львов, обладая „решительной
чувствительностью к изящности" (по
свидетельству Державина), т.е. чувствуя красоту
очень остро, до слез, всю жизнь делился этой своей
способностью с другими. Кружок Львова, славный в
истории нашей литературы, – это, конечно, в
первую очередь Хемницер, Державин и Капнист: все
трое обязаны Львову очень многим. Но к тому же
кружку принадлежал, скажем, и двоюродный брат
Львова Фёдор Петрович, который, будучи любителем и
знатоком музыки, занимался сам музыкальным
образованием сына, а этот сын – известный нам
Алексей Львов, создатель Российского гимна.
Левицкий, Кваренги, Бортнянский – легендарные
имена, – и тоже принадлежащие к ближайшему
окружению Львова. Все знают, что в России
дореформенной много было культурных дворянских
семейств; хочется добавить, что иные из них
(притом, наиболее известные – Бакунины,
Муравьёвы) получили важный импульс от Николая
Львова. Без его влияния, история этих семейств
сложилась бы по-другому и, возможно, была бы
скромнее.
Мы говорили с вами на прошлом чтении,
что поэт – это обособление, аномалия; что это, в
каком-то смысле, чудовище, способное
действительно не щадить для звуков жизни, даже и
чужой. (Вспомните хотя бы стихи Тютчева „Не верь,
не верь поэту, дева...") Вот Львов – это как раз
аномалия аномалии, то есть именно то, что
аномалию исправляет. Он мог бы стать ведущим
поэтом в своем поколении, имей он нормальное
честолюбие; вместо этого Львов отыскивает
повсюду других несчастных, уязвленных красотой,
измученных своим даром, и снабжает их
необходимыми сведениями, участием, любовью – из
личных запасов.
Достижения Львова в поэзии скромны, но
не вовсе незаметны. Считается, что он
предвосхитил поэзию русского сентиментализма.
Дал русскому читателю полного Анакреона,
переведённого размером подлинника: этот труд лёг
в основание анакреонтики Державина и Капниста.
Одним из первых у нас перевел Львов и шесть вис
легендарного викинга Харальда Сигурдарсона,
добивавшегося много лет любви Елизаветы
Ярославны, совершившего на суше и на море
различные подвиги. Впоследствии А.К. Толстой
посвятил этому норвежскому титану две
прекрасные баллады; львовская же „Песнь
Гаральда Храброго" является переложением не
скандинавского текста "Вис Радости", а всего
лишь французской их версии – да и скальдическая
поэзия, в принципе, непереводима, – но важно то,
что для своего перевода Львов использовал
ритмику народной песни "не звезда блестит
далече во чистом поле". А богатырская повесть
"Добрыня", начатая Львовым, стала первым в
нашей поэзии (и весьма искусным) подражанием
былинному эпосу. И именно Львову принадлежала
идея издания знаменитого "Собрания народных
русских песен с их голосами", ставшего
событием в истории русской литературы и
музыкальной культуры.
Таким образом, в
середине пышного царствования Екатерины с его
классическими и ложно-классическими
литературными идеалами, чуткий Львов
возобновляет поиски национального
стихотворного размера, вплотную подходит к мысли
о необходимости народности для литературы. Это
не "народность" некоторых од и песен
Н.П.Николева, писавшего с одинаковой лёгкостью
по-французски, по-итальянски и по-солдатски
("Гудошная песнь на случай взятия Очакова");
это та народность, требование которой, идущее
вразрез с генеральной линией Века Просвещения,
станет программным у немецких романтиков.
Подытоживая сказанное о Львове,
заметим: он многое делал первым, но он мало любил
своих литературных чад, мало ими занимался и не
столько стремился сам подняться на вершину
славы, сколько расчищал дорогу вслед идущим.
Чтобы проиллюстрировать отношение Львова к
своему творческому наследию, приведу отрывок из
письма, в котором Николай Александрович сообщает
Капнисту о том, что некий общий знакомый
"потерял не только все мои сочинения, сколько
их ни было, но и записки мои, до художеств
касающиеся, и все мои журналы. Нет у меня теперь в
библиотаже ни строчки, а в голове ни одной мысли.
Я чаю, ты бы за это рассердился. И я бы
рассердился, да стал глуп очень, так всё равно,
прости". Тут вы всё видите сами. Разграблены
архив и библиотека; Львов сознаёт, что
ненормально не сердиться из-за этого, и
оправдывается болезнью и вызванным ею
„поглупением". Просит, на всякий случай,
прощения... Ясно, что автором, человеком,
пестующим свою самость, Львов быть не может. Его
природа, пожалуй, выше авторской.
Слово, которое мне сегодня особенно
часто приходится употреблять, есть слово
"перевод". Все поэты XVIII столетия что-нибудь да
переводят; даже Василий Майков, не зная
иностранных языков, переводит с
церковно-славянского псалмы. Это понятно.
Русская поэзия, хоть и родилась у Ломоносова
"красавицей", из детского возраста ещё не
вышла и должна многое перенимать от старших
сестёр.
И здесь выплывает на поверхность одна
тема – тема деликатного свойства.
В учебной литературе до сих пор
чрезвычайно высоко оценивается деятельность
Новикова. А судьба Новикова служит, обыкновенно,
наглядным пособием при публичной защите тезиса
„Самодержавие – враг просвещения". В самом
деле, с одной стороны мы видим развратную
императрицу, которая закрепощает вольных
украинских хлебопашцев и раздаёт награбленные
деньги любовникам, с другой – благородного
просветителя, который наводняет Россию книгами,
заслуживает тем самым неприязнь развратной
императрицы и попадает в крепость... Живая
картина и контраст разительный.
Действительность, как водится,
сложнее.
Культурное строительство во все
времена стоило очень дорого, а успехи истинного
просвещения в России XVIII столетия очевидны. Укажем на
одну только деталь: античная классика была у нас
за эти сто лет переведена и издана практически
полностью.
Инициатива в деле усвоения
общемировой культуры исходила от правительства,
шла сверху; Новиков был один из частных
предпринимателей, откликнувшихся снизу на эту
инициативу. Тайные цели Новикова, наверное,
отличались от благородных и ясных целей
правительства (он был видный масон, мартинист), но
мы с вами, слава Богу, в масонские тайны не
посвящены и говорить о них поэтому не будем.
Известно, что Новиков в двадцать раз увеличил
оборот книжной торговли в России (об этом можно
прочесть в „Обозрении русской словесности 1829
года" И.В. Киреевского) и приохотил нашу
провинцию к беспробудному, запойному чтению,
подготовив тем самым фундамент для устройства в
будущем Ордена российской интеллигенции. Этой
заслуги никто у него не отнимает. Но ведь не
Новиков платил Баркову жалованье за его занятия
Горацием, не он материально поддерживал 17-ти
летний труд Василия Петрова над переводом
"Энеиды"... Скажем, наконец, грубо и прямо: царское
правительство тратило огромные деньги на
просвещение, на культурное строительство – и
тратило безвозвратно. Новиков на просвещении
зарабатывал. И заработал так много денег, так
широко развернул с их помощью своё „дело", что
мог уже формировать общественное мнение,
направляя его на цели, весьма отличные от целей
правительства. Впрочем, пострадал он не за это, а
за свои связи с заграничными масонами.
Попробуем теперь воскресить метод
сравнительных жизнеописаний, излюбленный
Плутархом, и, в параллель к судьбе Новикова,
рассмотрим другую писательскую судьбу.
Ермил Иванович Костров признается
крупнейшим поэтом-переводчиком XVIII столетия. Гнедич в свое время
начал переводить "Илиаду" александрийским
стихом с той песни, на которой остановился
Костров, не рискуя (или просто не находя нужным)
вступать с ним в состязание. Суворов во всех
походах возил с собою костровский перевод песен
Оссиана, называл Кострова любимым своим поэтом и
неизменно ему покровительствовал. А в
покровительстве Ермил Иванович нуждался. М.
Дмитриев описывает его так: „Костров – кому это не
известно! – был действительно человек пьяный.
Вот портрет его: небольшого роста, головка
маленькая, несколько курнос, волосы приглажены,
тогда как все носили букли и пудрились; коленки
согнуты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называется,
рохля. Добродушен и прост чрезвычайно".
Дальше М. Дмитриев рассказывает о том,
как Потёмкин однажды заинтересовался Костровым
и пожелал его видеть. И как И.И. Дмитриев,
Александр Карамзин (брат Николая Михайловича) и
другие собирали Кострова в дорогу. Каждый что-то
уделил ему из своего платья. Поэта "причесали,
обули, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили
идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь,
чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашёл;
но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для
того, что идти с ним рядом было несколько
совестно: Костров и трезвый был не твёрд на ногах
и шатался". Довели его до дверей Потёмкина,
втолкнули – и тогда уже разошлись по своим делам.
О чём говорит это описание характера и
житейских привычек Ермила Ивановича? Ведь если
такой человек, мягко говоря незнатный, абсолютно
незащищённый, неприспособленный, притом
хронический алкоголик, мог всё-таки прожить
жизнь, писать и переводить, иметь при
университете синекуру (15ОО рублей в год),
пользоваться вниманием таких людей, как
Потёмкин, Суворов, И.И. Шувалов, Дмитриев – ну, это
говорит о том, на мой взгляд, что горькая участь
Новикова не была обязательной для человека,
решившегося в царствование Екатерины посвятить
жизнь литературе.
Говоря о кружке Львова, я упомянул
первый раз имя, которое стоит чрезвычайно высоко
в индексе русских поэтов.
Мы с вами перебрали немало славных
поэтических имён, относящихся к XVIII столетию; среди них было до сих
пор только два имени обязательных: Ломоносов и
Кантемир. Можно не знать Хераскова и Богдановича,
могут не дойти руки до Ветрова, до Николая Львова
– но человек, мнящий себя образованным, обязан
хотя бы раз в жизни прочесть Кантемира и
Ломоносова. Это классические наши писатели.
Можно учиться правильно говорить по-русски,
правильно мыслить на русском языке, не
интересуясь тем, как это делали образцовые
авторы в XVIII
столетии, можно и дом на песке строить без
достаточно глубокого фундамента. Не будем
обольщаться: Кантемир, Ломоносов устареть не
могут. Если русская классика ничего не говорит
уму и сердцу нашему, то виноваты в этом как раз ум
и сердце, а не классика.
Так вот, третий такой автор на нашем
пути, автор классический, это Иван Иванович
Хемницер. Когда-то его басни входили в
обязательную программу начальной русской школы,
теперь самое имя его забывается понемногу.
Отец Хемницера, честный немец,
перебрался из Саксонки в Россию, прослужил здесь
пятьдесят лет по госпитальной части и умер в
бедности. Сын своего отца, Хемницер двадцать
четыре года провёл на государственной службе и
тоже ничего для себя не выслужил. Едва-едва мог он
пропитать на свои средства старушку-мать, а про
женитьбу нечего было уже и думать.
Как поэт Хемницер пользовался
известным признанием. Незадолго до смерти бал
даже избран в члены Российской Академии. Имел
прекрасных друзей. Его трудно было не любить –
тонкого, застенчивого, отлично образованного,
простодушного Хемницера. Имелись среди его
друзей и люди влиятельные, состоятельные.
Но ведь это Кострову легко было помочь
– накормить, обуть, причесать...
Благовоспитанному, безукоризненному в житейских
отношениях Хемницеру помочь было не в пример
труднее. (И это при том, что Костров, вообще
говоря, в год пропивал больше, чем Хемницер
проживал.)
Друзья думали о нём, хлопотали, искали
для него местечко и, наконец, нашли.
Тридцатисемилетний Хемницер назначен был
консулом в Смирну. Туда он и отправился, скрепя
сердце, год промучался в этой гибельной
малоазийской Смирне и умер. Кажется, от холеры.
Сочинения Хемницера отличает чистота
слога, точность выражений, безыскусность. Что
может быть проще такого, например, зачина:
Какой-то в Лондоне хитрец один
сыскался,
Который публике в листочках обещался,
Что в узенький кувшин он весь,
Каков он есть,
С руками
И с ногами,
В такой-то день намерен влезть, –
или такого:
Невесть
разбойники, невесть мурзы какие,
Да только люди непростые,
И двое их всего -
То есть вот этих только двое,
А то их всех число совсем другое.
Простота и прелесть подобных стихов
являются, конечно же, результатом труда – очень
большого, очень напряженного и, в известном
смысле, неблагодарного. Незаметного. "Что в них
особенного? Что здесь нового?" – скажет
(или подумает) читатель при первом знакомстве с
ними.
Гораздо выгоднее для поэта отдаться
вполне потоку своих чувств, пусть не
отстоявшихся, незрелых, неотчётливых для самого
поэта, – и затопить ими читателя, захватить,
увлечь за собой... – Куда увлечь? – Господи, да
какая разница! Разве не ясно сказано у Поэта:
"...И в дуновении чумы"? Была бы только
лирическая сила налицо:
В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву...
Возразить, естественно, нечего.
Разве что вспомнишь лишний раз горькие
слова Баратынского: "Поэт только в первых,
незрелых своих опытах может надеяться на большой
успех. За него все молодые люди, находящие в нём
почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные
в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с
большою обдуманностью, с большим глубокомыслием;
он скучен..." – но и эти слова Баратынского
лишний раз напоминают о том же: в промышленную
эпоху честное служение в поэзии невыгодно.
Стихи, подобные хемницеровским,
рассчитаны на идеального читателя, каких в ином
поколении может вообще не родиться или родиться
один-два. В таких стихах нет ничего лишнего и
случайного: каждое слово, каждый знак препинания
стоит на своим месте по смыслу, при этом все они
строго поляризованы в поле авторской воли и
служат общей идее. Единственной наградой автору
за колоссальные издержки времени и материала при
выработке таких стихов является их
долговечность.
И не то чтобы нам не нравилась сама по
себе лирическая сила. И нельзя сказать, чтоб мы
считали наготу стиля, отсутствие лишних слов
священной обязанностью поэта – напротив,
энергичное выражение, яркий образ сильнее и
резче выступают на фоне трёх-четырёх бесцветных,
"проходных" строк.
Но человек, слишком долго занимавшийся
поэзией русских символистов или вдруг
прочитавший подряд несколько больших вещей И.
Бродского ("Авраам и Исаак", "Большая
элегия Джону Донну"), где элементарным
носителем лирического заряда становится не
слово, не строка, даже не строфа, а – страница,
скоп, кубическая сажень стихов, каждый из которых
сам по себе ничего не стоит, – такой человек с
истинным удовольствием возвращается к стихам
Хемницера.
Литература о Хемницере невелика. Из
крупных критиков один только Н. Полевой посвятил
ему отдельную статью. Белинский где-то что-то
провещал полуодобрительное о "старике
Хемницере". Вяземский отозвался о Хемницере
так: "Согласимся, что если нравственная цель
басни и постигнута им, то не прокладывал он к ней
следов пиитических..." – С этим как раз трудно
согласиться. Для молодого Вяземского, который со
слуха был романтик и дилетантски за романтизм
ратоборствовал, классицист Хемницер – педант, не
поэт. Но именно педанты ясно никогда не пишут.
Педант может быть эпигоном классицизма,
романтизма, какого-нибудь другого литературного
направления – в любом случае, он кропотливо
имитирует "следы пиитические" и, не
постигнув нравственную цель сочинения, не
добравшись до тайной пружины, которою заводится
весь механизм, впадает в неряшливое многословие.
А нагота стиля у Хемницера подобна
сдержанности благовоспитанного человека,
который, возможно, и проигрывает при первом
знакомстве холодному позёру с его расчисленными
жестами или задушевному молодчику, чья природная
доброжелательность подогрета двумя бутылками
пива, – но при знакомстве многолетнем раскрывает
больше и больше привлекательные стороны своей
натуры.
Чтобы нам закончить разговор о
Хемницере на мажорной ноте, прочитаем вместе
отрывки из бесподобного "Метафизика". Сюжет
басни вы, наверное, помните: отец посылает сына
учиться заграницу, сын возвращается по-прежнему
дураком, но дураком учёным. И вот однажды, "в
метафизическом беснуясь размышленьи", он
оступается на ровной дороге и попадает в ров , в глубокую яму.
Отец, который с ним случился,
Скорее бросился веревку принести -
Премудрость изо рва на свет произвести;
А умный между тем детина,
В той яме сидя, рассуждал:
„Какая быть могла причина,
Что оступился я и в этот ров попал?
Причина, кажется, тому землетрясенье,
А в яму скорое стремленье
Могло произвести воздушное давленье,
С землей и с ямою семи планет сношенье..."
Прибегает отец с веревкой: „Я потащу
тебя, держися!" – но студент, сидя на дне ямы,
вступает с ним в дискуссию и хочет сначала
выяснить вопрос о сущности веревки – ...какая это
вещь? Отец,
Вопрос ученый оставляя,
"Веревка вещь, – ему ответствовал, – такая,
Чтоб ею вытащить, кто в яму попадет." -
„На это б выдумать орудием другое! -
Учёный все свое несет. -
А это что такое?..
Веревка! – вервие простое." -
"Да время надобно! – отец ему на то. -
А это хоть не ново,
Да благо уж готово." -
„Да время что?" -
„А время вещь такая,
Которую с глупцом не стазу я терять.
Сиди, – сказал отец, – пока приду опять".
- – -
Что, если бы вралей и остальных собрать
И в яму к этому в товарищи послать?..
Да яма надобна большая!
„Метафизик"
веселил сердца многих поколений русских
школьников. Какие-то глубинные струны народной
души – с её здравомыслием, с её стремлением к
предметности, к конкретности духовного опыта –
отзывались на эту басню (в том виде, в каком она
существовала до конца XIX в. и в каком вы её сейчас
услышали – т.е. с поправками Капниста) с
благодарностью.
Василий Васильевич Капнист – ещё одни
член кружка Львова. Культурный поэт, поэт тонкий
и разнообразный, достигший по меркам своего
времени чрезвычайно высокого уровня
версификации.
Сын героя, павшего в битве при
Гросс-Егерсдорфе. Муж совета, побывавший в разное
время и губернским предводителем дворянства, и
директором Императорских театров, и даже
генеральным судьей Полтавской губернии.
Мужественный человек, боровшийся средствами
искусства против произвола судейских
чиновников. Друг бедняков, создавший между
прочими и такие запоминающиеся, щемящие строки:
...муж с женою,
Бежа из родины своей,
Уносят бедность за спиною,
А у груди нагих детей.
Богач! на что ты грабишь нища?..
Грек по происхождению, Капнист был
уроженец и патриот Малороссии. Закрепощение
крестьян трёх украинских наместничеств,
произведённое правительством в мае 1783 года,
переживалось им очень тяжело. (Хотя земным раем
эти области не были и до 1783 года; Екатерина только
ввела в минимальные юридические рамки вековой
произвол казачьих старших.) Ф.Ф. Вигель
утверждает даже, что Капнист, как и младший
товарищ его Гнедич, постепенно сделался тем, что
до Беловежскоро сговора 1991 года именовалось
"украинским сепаратистом".
Советское литературоведением назвало
Капниста сентименталистом демократического
толка. Разберём это определение.
Сентиментальность есть беспредметная
чувствительностъ. То есть, это любовь, но любовь
духовно слепая, обращённая на второстепенные
объекты в обход существенно важных.
Сентиментальность демократическая есть,
очевидно, такого же невысокого духовного
достоинства – ненависть.
После Гоголя, открывшего, что
правительство – это мы сами, отыскавшего в себе
самом все "ужасы России", после
славянофилов, сумевших вскрыть религиозные
корни русского европейничанья, отделившего
власть от народа, – трудно всерьез увлечься
мелодичными ламентациями Капниста по поводу
"властей" и "царей", они же "из
счастливых людей несчастных и зло из общих благ
творят". Тем самым "цари" и "власти",
т.е. современники и соотечественники поэта, люди
большей частью незлые и благомыслящие,
преобразуются во „врагов народа" времен
Французской революции, в „красно-коричневых"
современной России, в инопланетных чудищ из
американского мультсборника. Психика подобных
существ загадочна для нас ; налогоплательщику достаточно
знать, что все они безусловно вредны,
отвратительны и неисправимы. Что если они не
сдаются, их уничтожают. Что не сдаются они
никогда...
В общем, я не вижу причин, по которым
нам следовало бы теперь читать Капниста.
Несмотря на то, что темы его переживаний
(произвол чиновников, страдания народа)
актуальны сегодня, как никогда раньше,
творчество Капниста устарело ещё больше, чем
творчество Богдановича. Это всё та же
просветительская линия „помощи
правительству", но уже без тени надежды на
сотрудничество с ним. Капнист вполне сознательно
хвалит императрицу именно за те качества,
которых у неё нет и никогда не будет. Это не
умеренная оппозиция – это вызов, предшествующий
началу боевых действий. От белого калении
Капниста уже рукой подать до Радищева и
декабристов.
Павел I пригрел Капниста, обласкал, позволил
напечатать и поставить на сцене "Ябеду",
совершенно невозможную в цензурном отношении и
малохудожественную пьесу, но было уже поздно
что-либо менять. Капнист закостенел в гордом
отвращении ко злу – к тому наружному,
фантастическому, неуловимому злу, которое не мы
сами, которое ненавидеть так естественно, так
упоительно, так легко и так, к сожалению,
бессмысленно. Доброго плода это чувство принести
не может.
Любопытно, что в споре о русском
гекзаметре Капнист выступил оппонентом Гнедича
и Уварова. Капнист считал, что Гнедич,
ориентируясь на труды Фосса, немецкого
переводчика Гомера, совершает ошибку –
занимается "воскрешением Тредиаковщины".
Резкое, решительное выступление графа Уварова в
защиту Гнедича только и убедило последнего
продолжать начатое. Будь воля Капниста, мы бы имели
"Илиаду", переведенную былинным размером:
„Ой ты гой еси, божественный Гектор". (Кстати
сказать, далеко не единственный случай в истории
русской да и мировой культуры, когда
„вельможа" оказывался дальновиднее
„певца" с его благородными чувствами и узким
кругозором – и именно пользы-то приносил больше.)
Последний поэт из кружка Львова, о
котором мы будем говорить, это Державин. Но
нелепо, конечно же, представлять Державина
членом какого бы то ни было кружка. Державин есть
Державин. Четвёртый и последний классический
автор русского XVIII столетия. Притом, если мы говорили о редком
уме Кантемира, о великой душе Ломоносова, о
чистоте служения Хемницера (и эти великолепные
качества, скажем так, обнаруживаются в их стихах
– при внимательном чтении), то Державин прежде
всего поэт, поэт по преимуществу. Главным в его
стихах являются, безусловно, сами стихи.
Именно Державин стал первым в России
поэтом, которого серьёзная критика возвела в
высший литературный ранг, признав его поэтом
гениальным (Н. Полевой, 1833 год).
Но сегодня время наше закончилось, и я
только прочитаю на прощание превосходную
характеристику державинской поэзии,
принадлежащую Гоголю; мы вместе подумаем над нею,
а следующее Чтение начнем с развернутого
разговора о Державине.
"Сравнительно с другими поэтами, у
него всё глядит исполином: его поэтические
образы, не имея полной окончательности
пластической, как бы теряются в каком-то духовном
очертании и оттого приемлют ещё более величия.
(...)
Все у него крупно. Слог у него так
крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв
анатомическим ножом, увидишь, что это происходит
от необыкновенного соединения самых высоких
слов с самыми низкими и простыми.
...Исполинские свойства Державина,
дающие ему преимущество над прочими поэтами
нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и
безобразие, как только оставляет его
воодушевление. Тогда всё в беспорядке: речь, язык,
слог, – всё скрыпит, как телега с невымазанными
колесами, и стихотворение – точный труп,
оставленный душою. Следы собственного
неоконченного образованья, как в умственном так
и в нравственном смысле, отразились очень
заметно на его твореньях."
(продолжение следует) |