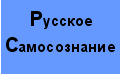Б.В. Никольский
Суд над Пушкиным
Предисловие к публикации
Сказать своё “слово о Пушкине” пыталось едва ли не абсолютное большинство русских писателей, философов, публицистов
XIX – XX вв. Остались слова глубокие, достойные пушкинского гения – но также и слова, без которых можно было бы вполне обойтись. Осталась, увы, и клевета, особенно та, что облекалась в “идейные” одежды. В этом последнем случае легко заметить общую закономерность: “клеветниками Пушкина” выступали (и продолжают выступать) клеветники России. Тем самым и такие речи доказывают неразрывную связь России и Пушкина, русского духа и духа пушкинской поэзии. Проверкой же силы русского духа, ясности русского самосознания служит то, получают ли подобные речи должный отпор – отпор по-настоящему духовный, не только разоблачающий клевету, но и углубляющий наше понимание Пушкина.Примером именно такого духовного отпора и может служить статья, предлагаемая вниманию читателя. Её автор – Борис Владимирович Никольский (1870-1919), ученый и публицист, активный деятель Союза Русского Народа, национально-патриотического движения начала
XX века. Творческое наследие этого замечательного человека требует, конечно, особого разговора. Отметим сейчас только тот факт, что уже к тридцати годам Б.В. Никольский стал автором ряда работ о Пушкине, написанных в серьёзном научно-филологическом и культурно-историческом ключе (“Поэт и читатель в лирике Пушкина”, “Академический Пушкин”, “Последняя дуэль Пушкина”). Но статья “Суд над Пушкиным” (1897 г.) занимает здесь особое место. В этой работе Борис Никольский дает твёрдый духовный отпор записному клеветнику России и по совместительству клеветнику Пушкина – известному философу В.С. Соловьёву. Впрочем, титул “философа” можно применять к Соловьёву разве что номинально, в силу привычки; на деле он лишь ловко имитировал философию, будучи по складу ума (как справедливо отмечает Никольский) “представителем журналистики”, причём журналистики агрессивно антинациональной. Это проявилось в его постоянных нападках на настоящих русских мыслителей (Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова, П.Е. Астафьева), но особенно нагло, оскорбительно для каждого русского человека – в том “суде над Пушкиным”, который “философ” Соловьёв решил устроить незадолго до 100-летнего пушкинского юбилея, в статье с многозначительным названием “Судьба Пушкина” (1897 г.).Б.В. Никольский говорит достаточно подробно о тех обвинениях, которые выдвинул Соловьёв против гения русской поэзии – поэтому не будем их сейчас разбирать в деталях. Отметим только, что самозванный судья решил одним махом опорочить и творчество, и личность Александра Сергеевича Пушкина, “доказать” и неподлинность, даже лживость пушкинской поэзии (на примере стихов, посвященных А.П. Керн), и отсутствие чести у Пушкина-человека (на примере его роковой дуэли). Звучит это до того нелепо, что возникает вопрос – а стоило ли вообще оправдывать Пушкина от такой клеветы? Не только стоило, но и было совершенно необходимо сразу по двум причинам. Во-первых, статья Соловьёва была своеобразным “шедевром” той имитации “философского анализа”, о которой только что говорилось; не сомневаюсь, что и сегодня найдется немало тех, кто готов принять за верх философского глубокомыслия типично Соловьёвские “тезы”, вроде следующей: “Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна”. И потому показать, что в основе подобных утверждений лежит вовсе не философский (и даже не психологический) анализ, а невежество и шарлатанство – значило отстоять достоинство подлинной философии, значение которой для русского самосознания, русской культуры Никольский прекрасно понимал (примерами могут служить его очерк жизни и творчества Страхова, статья в сборнике “Памяти К.Н. Леонтьева”, тонкий анализ философских элементов в лирике Фета и другие работы). Во-вторых же, клевете Соловьёва немало способствовала объективная непрояснённость ситуаций, связанных как с “увлечением” Пушкина Анной Керн, так и с его “реакцией” на интригу, которая повела к гибели поэта. Никольский вносит в эти ситуации необходимую ясность; более того, его размышления о стихах, посвящённых А.П. Керн (и связанных с ними страницах пушкинской поэзии в целом), представляют интерес сами по себе, если даже вовсе забыть о Соловьёве и ему подобных. Здесь Борис Никольский выступает прямым продолжателем того истинно философского осмысления русской поэзии, начало которому положили Аполлон Григорьев и Николай Страхов.
Но есть в статье Б.В. Никольского и особый трагический смысл, связанный с его собственной судьбой, которую он ещё не мог предвидеть в 1897 году. Спустя двадцать два года он был расстрелян в Петрограде за “причастность к заговору против советской власти”, как сообщил тогда журнал “Вестник литературы” (№ 5, 1919 г.). Затем на долгие десятилетия его имя было предано забвению, естественно, вместе с его литературным наследием. Вспомнили о Б.В. Никольском уже в наше “демократическое” время – и вспомнили для того, чтобы приписать ему “признание и оправдание большевистской власти с русской национальной точки зрения”. Инициатором здесь выступил архивист С.В. Шумихин, опубликовавший в альманахе “Звенья” (в. 2, 1992 г.) несколько частных писем Б.В. Никольского поэту Б.А. Садовскому. А затем, опираясь исключительно на те же письма, выводы “демократа” Шумихина поддержал (и даже усилил) известный публицист “патриотического лагеря” В.В. Кожинов, построив на этом скудном материале свою трактовку отношения “черносотенцев” к большевистскому правлению. При чтении Шумихина и Кожинова невольно думаешь: есть всё-таки у Вл. Соловьёва “духовные наследники”, причём по разные стороны нынешних политических баррикад! Дабы обосновать тезис о “примирении” Бориса Никольского с большевизмом, игнорируются и обстоятельства, в которых писал Никольский (в Петрограде 1918 года, под бдительным оком
“компетентных органов”, в атмосфере нараставшего “красного террора”), и личность его адресата – человека, мягко говоря, несерьёзного, к тому же “вдребезги больного” (разбитого параличом), излагать которому какую-либо “программу борьбы” было бы просто нелепо, которого и следовало призывать к тому, к чему призывал Никольский: смотреть на большевиков как на “исполнителей Божьей воли”, как на “власть, которая нами заслужена”. При этом с досадой убеждаешься, что увлечённый своими “историософскими” изысканиями Кожинов не понимает даже самый элементарный смысл этих выражений, когда их произносит человек православный. Последний всегда связывает любую власть с волей Бога – в том числе и власть своих палачей, памятуя слова Спасителя, обращённые к Пилату: “ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше” (Иоан., 19:11). Но тот же православный христианин знает, что палачи исполняют волю Бога “вопреки своей мысли и воле”, как постоянно отмечает Никольский, выражая тем самым недвусмысленный приговор большевизму. Приговор, которого одного вполне хватило бы для расправы, которая не заставила себя ждать; хватило бы и в том случае, если бы Борис Никольский не подкреплял своё “оправдание советской власти” указаниями на “насилия обезумевших, остервенелых и совершенно ослеплённых тушинцев из Смольного”...Нет, неправеден “суд над Никольским” – и со стороны “демократического” прокурора Шумихина, и со стороны “патриотического” адвоката Кожинова. И как бывает при всяком неправедном суде, его организаторы допускают “прокол”, пусть формально и второстепенный, но заставляющий вспомнить русскую поговорку “ври, да не завирайся”. В данном случае речь идет о “проколе”, который непосредственно связан с русской поэзией, что лишний раз подтверждает: даже в домыслах гг. Шумихина и Кожинова нетрудно заметить “перст Божий”. А именно, в одном из писем Б.В. Никольский цитирует строки:
Он выплыть из всех напрягается сил,
Но панцирь тяжелый его утопил!
- в которых любой ценитель русской поэзии без труда узнает стихотворение В.А. Жуковского “Мщение”, о слуге, убившем рыцаря, своего господина, чтобы завладеть его доспехами. И вот, г. Шумихин в специальном примечании поясняет, что строки эти принадлежат ... “Ивану Пересветову” (псевдоним тогдашнего поэта-монархиста, который использовал строки Жуковского в одном из своих стихотворений, забыв отметить это обстоятельство для нынешних “знатоков” русской словесности). А Кожинов даже не упоминает этот грубейший “ляп”, дабы не бросить тень на изыскания Шумихина. Такова, очевидно, “этика” мнимой борьбы “патриотов и демократов” ... Добавлю, что к тому же стихотворению Жуковского (написанному по мотивам баллады немецкого романтика Л. Уланда) обращался впоследствии русский философ И.А. Ильин в работе “Основы художества” (Рига, 1937 г.) – и обращался с той же целью, что и Б.В. Никольский: выразить с помощью знаменитого поэтического образа свое убеждение в конечной обречённости большевизма, с его притязаниями на доспехи российской государственности.
Конечно, не следует, подражая вышеназванным авторам, составлять какое-то окончательное суждение об отношении Б.В. Никольского к “двойной” революции 1917 г. только на основании опубликованных в настоящее время материалов, притом достаточно случайных. Здесь требуется куда более серьёзный анализ – и его личной позиции, и “черносотенного” движения в целом. В нашу задачу входило только оградить память Б.В. Никольского от явной напраслины. Это – просто долг чести. Тот долг, пример исполнения которого Борис Владимирович Никольский дал в статье “Суд над Пушкиным”.
Статья Б.В. Никольского публикуется по оттиску, напечатанному в типографии А.С. Суворина в Санкт-Петербурге, в 1897 году, с подзаголовком “письмо В.П. Буренину” (Виктор Петрович Буренин (1841-1926) – литературный и театральный критик, известный своими резкими отзывами о любимцах тогдашнего “демократического общества” – Надсоне, Горьком и прочих). По сравнению с первоисточником редакция “РС” сочла уместным (и удобным для читателя) набрать разным шрифтом текст Б.В. Никольского, цитаты из А.С. Пушкина и обширные выдержки из вышеназванной статьи В.С. Соловьёва. В сносках даны переводы иноязычных отрывков и выражений, а также сведения о лицах, упомянутых автором, но, возможно, недостаточно известных современному читателю.
Н. Ильин
I.
Вы удивляетесь, чем мог руководствоваться г. Соловьёв в своем решении лягнуть Пушкина? Ответ, по-моему, напрашивается сам собою: каждый находит в своем ближнем только то, что ему самому наиболее родственно и понятно. Один, довольствуясь печальным сознанием общей человеческой слабости и греховности, с тем большим старанием ищет в великих людях то, что их возвышает над людьми невеликими, ищет в их жизни и произведениях проявлений высшей духовной красоты, и радуется, и сам возвышается душою, когда находит; другой, ограничиваясь благовидными оговорками о своем, так сказать, сочувствии славе великих людей, посвящает свои силы отыскиванию всего мелкого, низменного и бренного, что только может найти его опыт или фантазия в лучших представителях рода человеческого. Вполне естественно, что деятельность ценителей второго рода превращает литературную критику в какую-то грандиозную портомойню, в которой внимание к жизни и творчеству сосредоточено не на чистом и светлом, а на всем запачканном или даже только кажущимся запачканным опытному
взору специалистов, в которой первенствующим материалом являются не художественные произведения, но черновые наброски, интимные письма, дневники, счетные книжки, в которой оцениваются и взвешиваются не добрые и прекрасные дела, но минутные слабости героев, и в которой, наконец, восторженно приветствуется и раздувается каждая, даже заведомо лживая, сплетня, но забрызгивается, подсаливается или замалчивается всякая похвала, всякое сведение, служащее к чести, славе и украшению великих людей. Единственным утешением остается нам то, что все усилия представителей портомойной критики проходят бесследно для светлой памяти облюбованных ею героев и играют только чисто отрицательную роль, то есть показывают высоту духовного уровня среды, которая поучается портомойными исследованиями. Так точно бывают суждения, которые характеризуют предмет, о котором произносятся, и такие, которые характеризуют только тех, кто их произносит. Таким образом, вполне ясно, почему г. Спасович1, прославившийся подвижностью своих нравственных критериев в зависимости от обвинений, тяготевших над обращавшимися к нему клиентами, усмотрел такую же эластичность или “периодичность” в политических воззрениях Пушкина, а г. Соловьёв, не менее г. Спасовича знаменитый разнообразием и нравственными особенностями своих публицистических приемов, сосредоточил свое внимание на моральных качествах Пушкина и признал в нем недостаток элементарной порядочности, не говоря уже о более высоких требованиях чести. Не очевидно ли, что в своей статье почтенный член новоявленного суда чести очень выразительно характеризует лишь свои собственные нравственные и эстетические воззрения бессильными нареканиями на самое яркое и высокое светило нашей культурной жизни?Разбирая выходку г. Соловьёва, вы, к сожалению, ограничились тем, что добродушно выяснили всю нескладицу понятий почтенного Зоила, не дав себе труда внимательно вникнуть в те своеобразные приемы, при помощи которых он приходит к своим ошеломляющим выводам. Между тем эти приемы заслуживают внимания, и не только внимания, но и того, чтобы их вывели на чистую воду. Необходим решительный и немедленный отпор слишком предприимчивым судьям чести, добровольно и без всяких выборов принимающим на себя труд судить не только живых, но и мёртвых. В данном же случае отпор тем более необходим, что вся статья г. Соловьёва представляет из себя ещё и недобросовестное оплевание памяти Пушкина, всецело опровергаемое фактическими данными. Я не говорю здесь о той комичной торжественности, с которой г. Соловьёв, неизвестно кем признанный и уполномоченный, выставляет отметки в даровитости и просвещённости нашим государственным людям, заявляя, например, что “из всех русских министров народного просвещения Уваров был, без сомнения, самый просвещённый и даровитый”; равным образом, я могу только посмеяться вместе с вами над теми посмертными гороскопами Пушкину, в которых г. Соловьёв предсказывает, что было бы, если бы не было того, что было; нет, я говорю о простых и точных фактах, как, например, хронологические данные, подлинные слова, подлинные письма Пушкина. Более того, даже из них я оставляю в стороне те, которые извращены г. Соловьёвым без всяких дальнейших целей, а просто по небрежности и легкомыслию, как, например, его сопоставление “еще не перегоревшего в юных страстях” автора шестой главы “Евгения Онегина” с “возмужалым автором “Пророка” и “Отцы пустынники и жены непорочны”, тогда как цитируемое место из “Евгения Онегина” относится к первым числам августа 1826 года, а “Пророк” написан не позже сентября того же года: хотя и этот промах показывает степень тщательности г. Соловьёва при его работе, но и его, и ему подобные другие, можно оставить в стороне. Но нельзя отнестись так же равнодушно к величественному пренебрежению к истине, которое можно почерпнуть только в желании надругаться над памятью великого человека, и с которым г. Соловьёв строит свои обвинения на вопиющем извращении громко свидетельствующих против его измышлений фактов. Эти извращения должны быть изобличены без всякой пощады, чтобы успех г. Соловьёва не увлек на его скользкий путь других, ещё более развязных и ещё менее ловких, подражателей. Для этой цели, надеюсь, достаточно будет выяснить приемы г. Соловьёва, при помощи которых он “доказывает”, что Пушкин бессовестно лгал даже в лучших своих вдохновениях, и что его смерть была вызвана желанием, вопреки связывавшему его слову и прямому долгу чести, убить ненавистного врага.
II.
Первые месяцы 1825 года Пушкин провел в унылом и тоскливом состоянии духа, ни с кем почти не видясь, кроме случайных и недолгих посетителей, и ничего не сочиняя. В январе им было, правда, написано и окончено несколько крупных и замечательных стихотворений и начато много нового; но этот подъем творчества довольно быстро оскудел. “Живу
недорослем, валяюсь на лежанке, писал он князю Вяземскому в начале февраля, и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут”. “Литература мне надоела”, прибавлял он ему же 19-го февраля. “Много у меня начато, ничего не кончено, сообщал он Гнедичу 23-го февраля. Сижу у моря, жду перемены погоды. Ничего не пишу, а читаю мало”. “Стихов новых нет, извещает он около того же времени своего брата; пишу записки, но и презренная проза мне надоела”. То же состояние духа продолжается у него ещё в апреле. “У меня хандра, пишет он князю Вяземскому 7-го апреля, и нет ни единой мысли в голове моей”. И на самом деле, к периоду времени от февраля до марта месяца могут быть с достоверностью отнесены лишь три маленьких стихотворения (“К имениннице”, “Сафо” и “Если жизнь тебя обманет”), одна эпиграмма и один шутливый набросок. Вполне точно и правдиво говорил он поэтому о своем душевном состоянии за это время, чтоВ глуши, во мраке заточенья
Тянулись грустно дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Тоскуя в своем уединении, он затевал было поездку за границу под предлогом лечения аневризма и даже бегство из пределов России; но его старания увенчались только разрешением лечиться во Пскове, разрешением, которым он не захотел, конечно, и пользоваться. Однако ещё 25-го июня надежда увидеть чужие края владеет им всецело, как видно из стихотворения к П.А. Осиповой:
Быть может, уж недолго мне
В изгнаньи мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.
Но и вдали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом...
Однако, ни во время этих надежд, ни раньше, вдохновение к нему не возвращается, так как до самого конца июня им написано, кроме упомянутого стихотворения к Осиповой, лишь несколько мелких эпиграмм и статья о Сталь и
Муханове 2 . На основании некоторых указаний, к маю относили сочинение знаменитого отрывка из “Египетских ночей”: “Чертог сиял. Гремели хором...”; но по многим признакам можно думать, что здесь мы имеем дело с ошибкой в два – три месяца, как я постараюсь показать несколько ниже, и что отрывок относится к июлю, а самое раннее – к концу июня. Впрочем, и без особенных доказательств как-то трудно поверить, чтобы поразительное по глубине замысла, безупречно прекрасное по форме произведение было написано случайно, среди упадка и вялости творческих сил поэта, на которые он постоянно в это время жалуется.Но этот кажущийся временной упадок сил был, как вам известно, только временем глубокого душевного кризиса, могущественного перелома в мировоззрении поэта. В глуши своего уединения он, неуловимо для себя самого, созревал к новым великим созданиям. Насильственно успокоенные страсти понемногу приходили ко внутреннему гармоническому равновесию, заглушённые нравственные идеалы всё светлей и чище выяснялись в его душе. Незаконченные замыслы, возникшие при других условиях, не отвечали уже новым настроениям, но и не перерождались ещё в более высокие концепции потому, что однообразная жизнь “в глуши, во
мраке заточенья” не давала никакого повода к тому сильному подъему душевных сил, без которого никогда не может в человеке завершиться и прийти к сознанию никакой серьёзный внутренний перелом. Уже в июне он пишет, шутя, что “торгует стихами en gros 3 , а мелочную лавочку №1 закрывает”, и около того же времени намеревается “думать об одних пятистопных без рифм”, что, вероятно, относится к “Борису Годунову”, который тогда уже тревожил его воображение, как “трагедия без любви”, о которой он, по его словам, вначале “мечтал с удовольствием”. Душе его, видимо, уже “наставало пробужденье”; но окончательным обновлением для нее, наполнившим страстью, тревогами и волнением его уединенную и однообразную жизнь и послужившим решающим толчком к оживлению творчества, явилось его недолгое, но пылкое увлечение А.П. К-н.Нет никакой надобности описывать вам все подробности этого романа. Достаточно будет напомнить, что А.П. К-н, рождённая П-ая, была замечательной красавицей своего времени, весьма напоминая собой королеву Луизу Прусскую, причем, однако, кроткая и нежно-женственная, идеальная внешность вовсе не сочеталась в ней со строгостью нравственных воззрений. Выданная шестнадцати лет от роду замуж за старика-генерала Е.Ф. К-на, она в этом неравном супружестве давала повод к самым недвусмысленным нареканиям, причем её муж, со своей стороны, не предъявлял к ней особенно стеснительных требований и, например, гласно получил, в 1817 году, от императора Александра
I подарок в 50000 рублей после смотра его дивизии в Полтаве, во время которого А.П. К-н обратила на себя особое внимание государя. Последующее поведение молодой красавицы никоим образом не содействовало спасению её репутации, которая так прочно установилась за нею, что она, даже по словам влюблённого в неё Пушкина, “по приговору света на честь утратила права”.Поэт впервые встретился с нею в 1819 году, в доме её тетки, Олениной, и был очарован ею, хотя ни глубоко, ни серьёзно, тем более, что и встретился, по-видимому, один только раз, да и встреча была мимолетна. Она, во всяком случае не оставила никакого ясного следа в его стихотворениях того времени и была скорее художественным, чем сердечным впечатлением. Так и сам он говорит о ней в позднейшую эпоху более сильной страсти:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты, –
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты –
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
Ни о какой любви тут нет и речи, даже о самой мимолетной. Поэт рассказывает только, что сохранил чудное внешнее впечатление, взволновавшее его воображение, но и забывшееся без следа. Наконец, и репутация А.П. К-н была уже в то время достаточно прочна, чтобы она могла произвести на него впечатление более глубокое. Быть может,
даже оно и не было так сильно, как казалось ему самому впоследствии. По крайней мере, его слова в осторожном и сдержанном первом письме к А.П. К-н – “ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление глубже и мучительнее того, которое произвела на меня в былые дни наша встреча у Оленина”, – эти слова так двусмысленны, что их нельзя растолковать с полной достоверностью.При совершенно других условиях произошло вторичное знакомство её с Пушкиным в 1825 году, в доме другой её тетки, соседки поэта по имению, П.А. Осиповой, к которой она приезжала ненадолго гостить. Я напомнил уже вам, как знаменательно было это время для внутренней жизни поэта. Сосредоточиваясь и углубляясь в себе самом, он уже носил в душе своей зародыши высоких, мужественных созданий. В уединении, далекий от столичной жизни с её пестрым разнообразием, он, естественно, был восприимчивее, чем когда-либо, к “мощной власти красоты”. Встреча с А.П. К-н явилась для него, по-видимому, неожиданностью, впечатление было тем сильней, и это совпадение медленно нараставшего душевного подъёма с страстным и внезапным увлечением, разрешившееся целым потоком вдохновений, и составляет основную тему, главный поэтический аккорд, которым заключается внушённое им стихотворение:
Душе настало пробужденье –
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.
Едва ли нужно подчеркивать, как склонна была душа Пушкина ко всему чудесному и таинственному, и до какой степени естественно ему было вдохновиться счастливым и поэтическим совпадением страсти и вдохновения, вообще ему не сродным.
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем...
Но я, любя, был глуп и нем.
Прошла любовь, – явилась муза
И прояснился темный ум.
В разбираемом романе любовь и муза явились вместе, и уже в сентябре 1825 года поэт писал Раевскому: “Я чувствую, что душа моя совсем
развернулась – я могу творить”.Судя по стихотворениям и письмам, любовь поэта не осталась без взаимности и, хоть это не могло сделать её более идеальной, но тем глубже охватила его внезапная и восторженная страсть. “В отношении
к вам я вёл себя, как 14-летний мальчик”, писал он впоследствии. И действительно, хорошо понимая и сознавая, какова та женщина, которой он увлекался, Пушкин не испытывал никакого охлаждения от этого сознания.Когда твои младые лета
Позорит шумная молва
И ты по приговору света
На честь утратила права,
Один, среди толпы холодной
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.
Но свет – жестоких осуждений
Не изменяет он своих;
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует от них.
Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья;
К забвенью сердце приготовь,
Не пей мучительной отравы,
Оставь блестящий душный круг,
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг.
Вот что писал он 19-го июля, за несколько дней до отъезда А.П.К-н. Такое странное противоречие чувств может иметь двоякое объяснение. Страсть, не охлаждаемая несомненно сознаваемыми пороками любимого существа, есть или та беззаветная страсть, которая навсегда разбивает сердце любящего человека, составляет его болезнь и страдание, мучительное бремя, угнетающее его душу, какова была, например, любовь Катулла к Лесбии (Клодии), погубившая поэта, или же наоборот, лишь добровольное самоослепление, пылкое, но неглубокое чувство, скорее всего
– шалость, перешедшая в страсть и душевную слабость, проходящая столь же быстро, как и возникающая. Не может быть никакого сомнения, что именно под эту вторую категорию подходило увлечение Пушкина, при всей своей пылкости занявшее в его жизни около полугода, а вернее – около двух месяцев. Перечтите его письма к его “божественной” очаровательнице, – и вы согласитесь со мной. “Опять берусь за перо, ибо умираю от скуки и могу заниматься только вами”, – пишет он 25-го июля. “Умоляю вас, божество мое, сжальтесь над моей слабостью, пишите мне, любите меня и тогда я постараюсь быть любезным”, – пишет он 14-го августа. “Увижу ли я вас опять? Мысль, что нет, приводит меня в трепет”, – пишет он 28-го августа. “У меня только и есть дорогого, что надежда ещё увидеть вас всё ещё прекрасной и молодою... ещё раз, не обманывайте меня”, – это писано 22-го сентября; а уже письмо от 8-го декабря (оставшееся последним), начинается словами: “Никак не ожидал я, очаровательница, чтобы вы обо мне вспомнили, и от глубины души благодарю вас”. Наконец, в письме к Вульфу4 в мае 1826 года он, между прочим, осведомляется, “что делает вавилонская блудница Анна Петровна?” Даже в этих отрывках перед нами ясно проходит вся понижающаяся гамма этой страсти.И тем не менее было бы ошибочно видеть в увлечении Пушкина одну только нравственную слабость. Пушкин не только знал репутацию и характер своего “божества”, не только видел скептическим взором светского человека её недостатки, но и понимал их внутренний смысл, как художник, и вследствие этого понимания прощал их перед строгим нравственным судом своего благородного сердца. Даже более того: не имея возможности оправдать любимую женщину, он готов был за неё
“мольбой бесплодной кумир бесчувственный молить” о таком же прощении, ибо чувствовал, как нужно это прощение легкомысленной, но прекрасной женщине, которая не в силах презирать суждения света и, однако, не имеет силы им подчиняться. Эта жалость заходила так далеко, что поэт вызывался даже на безрассудный подвиг – принять на себя всю тяжесть светских гонений, выступая единственным другом безвозвратно погибшего в глазах света, но милого создания. Доказательством же его глубокого проникновения в тайну характера его “божества”, в печальную поэзию этой красавицы, столь недостойной своей красоты, могут служить два изумительных образа, подсказанных его вдохновению его любовью, и воплощающих разгадку этого двойственного характера, – образы Клеопатры и Марины.Клеопатра – демонический образ чувственной страсти, возведённой в перл создания. “В закон себе вменяя страстей единый произвол”, прекрасная царица Египта сознает власть и силу своего очарования и, руководимая страстью, ни в чём не находящей пресыщения, ищет хоть минутного удовлетворения в ухищренных извращениях своей чувственности. “Неслыханное служение” страсти – вот одно, что её способно прельстить и увлечь. Эта страсть отдыхает только в нарушении “всех условий света”, в дерзком вызове всему, что только может встретиться на пути её произвола. “Она смущённый ропот внемлет с холодной дерзостью лица”. Как женщина, она, правда, не доходит, подобно дон Жуану, до прямого вызова высшей справедливости и до надругательства над таинственными силами, но как женщина и не уступает своему двойнику и во всеоружии красоты и очарования бросает проникнутый издевательством и каким-то вакхическим упоением вызов всем преградам и условиям жизни. Демоническая власть чувственной красоты, или, вернее, поэзия красоты, ставшей всемогущим орудием демонического произвола страстей, – вот поэзия Клеопатры. Среди её гостей не было никого, кто бы не знал, чему служит её красота – и всё же “сердца неслись к её престолу” и весь пир притих, когда она “поникла дивною главой”. Вызов ее, казалось бы, убивал всякую страсть – но что же?
Рекла – и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца!.
Само собой разумеется, что Клеопатра – поэтический вымысел; но смысл и сила этого вымысла в том, что он соединяет и воплощает с полной безусловностью и цельностью в одном характере те черты, которые в действительной жизни являются нам лишь в противоречивых и обманчивых сочетаниях с другими, их искажающими, смягчающими и заслоняющими, особенностями и свойствами. Конечно, позднее Пушкин пытался найти живую Клеопатру даже в нашей русской действительности, – я имею в виду отрывок из “Египетских ночей”, начинающийся словами: “Ах, расскажите
, расскажите”, – но сам оставил эту попытку, едва ли, как мне кажется, выполнимую. С другой стороны, было бы насмешкой над здравым смыслом утверждать, что Клеопатра – поэтическое изображение той, которая являлась Пушкину, как гений чистой красоты, хотя и не имела никакого права так ему являться по приговору его нравственного суда; но можно угадывать из писем к ней Пушкина, как действительность могла подсказать ему образ Клеопатры, казалось бы, не менее превосходящий всякую действительность, чем образ “блудницы вавилонской”.И вот, как на вызов Клеопатры выступают три её будущих любовника, так точно тройственной страстью отозвалась душа Пушкина на очарование той, которая порабощала его душу, находившую в ней божество, но божество коварное и злое, – божество безрассудной страсти. “Я вел себя
по отношению к вам, как 14-летний мальчик”, писал он, – то есть, как третий из принявших вызов Клеопатры, который “имени векам не передал”:Восторг в очах его сиял,
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом.
Эту сторону своего увлечения, наиболее беззаветную и пылкую, и выразил Пушкин стихотворением “Я помню чудное мгновенье”. В этой пьесе, исполненной дивной музыкальности, так гениально выраженной Глинкою, воплощён именно тот крайний восторг страсти, который граничит с чистым вдохновением, всё претворяя в свою недолгую, но могущественную гармонию, где страсть так напряжена и сосредоточена, что самая действительность рисуется ей в неземных образах, “небесными чертами”.
Но в восторге этом лишь одна сторона увлечения великого поэта. В нем были не только пламенные страсти, но и высокий дар художника. На тот вызов, который бросала ему своими пороками казавшаяся гением чистой красоты, в его душе очнулся
... Критон, младой мудрец,
Рождённый в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
Этот поэт уже не мог видеть в ней божества и чистого гения, но как художник понимал и жалел, безрассудно жалел в своей очаровательнице женщину, которой обещал быть единственным другом, прощая все её пороки и умоляя бесплодной мольбой о прощении бесчувственный кумир света. Его страсть была именно бесплодным самозакланием сердца этому кумиру за ту, которая была столь же недостойна этой жертвы, как и очарования своей красоты,
В которой дьявол сквозь угар
Казался Божьим херувимом.
Но не только восторг страсти и жалость поэта проникали в душу Пушкина: в ней говорило и третье, не менее могущественное, чувство, – честолюбивая гордость, и подобно Флавию своей поэмы
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
Те пороки, которых он не видел в разгаре страсти, которые прощал под внушением жалости, – они же и оскорбляли его, возмущали его лучшие чувства и соблазняли его чувственные силы. Уязвлённая гордость, возмущённая любовь и раздражённая чувственность, – вот чем проникнуто его третье стихотворение к А.П. К-н, “Желание славы”, ничем не уступающее двум выше разобранным по красоте и силе выражения, но к сожалению менее известное. Позвольте вам его напомнить на этом месте целиком:
Когда, любовию и негой упоённый,
Безмолвно пред тобой коленопреклонённый,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, -
Ты знаешь, милая, желал ли славы я!
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным призванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня толпы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне внимательные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь? Ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стеснённое молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, – всё на главу мою
Обрушилося вдруг. Что я? Где я? – Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И всё передо мной затмилося... И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья!
Это же превосходное стихотворение может мне послужить переходом к характеру Марины. Вам, конечно, известно, что сцена у фонтана, которая своим заключением с обоюдными вызовами Самозванца и Марины, особенно словами Самозванца:
Царевич я. Довольно. Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы,
Тоску любви, надеюсь, заглушат.
Не будешь ты подругою моей,
Моей судьбы не разделишь со мною,
Но, может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою...
так изумительно напоминает основную тему только что выписанного стихотворения – что эту сцену Пушкин, по его же словам, разом создал, возвращаясь как-то ночью верхом из Тригорского летом 1825 года. Не была ли это та самая ночь, когда оскорблённая душа поэта так пламенно загорелась “желанием славы”? Как я напоминал вам выше, “Борис Годунов” первоначально был задуман “трагедией без любви”. Вы едва ли не согласитесь со мной, что появление Марины не связано непосредственно и необходимо с ходом пьесы, а лишь вставлено в неё с неподражаемым искусством, как драгоценный камень в диадему, первоначально, быть может, на него и не рассчитанную.
Итак, обращаюсь к характеру Марины. К счастью сам Пушкин растолковал его в одном из своих писем. “С удовольствием я мечтал о “трагедии без любви”, пишет он; но кроме того, что любовь составляла существенную часть романического и страстного характера моего авантюриста, Дмитрий ещё влюбляется у меня в Марину, чтобы мне лучше было высказать странный характер этой последней. У Карамзина она представлена только в очерке. Конечно, это была самая странная из хорошеньких женщин. У неё была только одна страсть – честолюбие, но до такой степени сильное, бешеное, что трудно себе и представить. Посмотрите, как она, попробовав царской власти, упоённая пустым призраком, распутничает, переходя от авантюриста к авантюристу, разделяет то отвратительное ложе с жидом, то палатку с казаком, постоянно готовая предаться кому бы то ни было, лишь бы он мог подать ей слабую надежду на трон, более уже не существующий. Посмотрите, как она борется с войной, нищетой, позором, и в то же время сносится с польским королем, как равная с равным, и наконец постыдно кончает самое бурное, самое необыкновенное существование. У меня она является только в одной сцене, но я возвращусь к ней, если Бог продлит мои дни. Она возмущает меня, как страсть. Она страшно какая полька, как”...
Здесь подлинное письмо обрывается; но и сохранившегося вполне достаточно. Мне кажется, что не требует особых пояснений, как гениальный взор Пушкина разглядел “перл создания” в том, что ему давала действительность, как он разложил на Клеопатру и Марину простую смертную, с небесными чертами и земной душой.
“Voulez vous savoir, ce que c’est que m-me K-n? Elle est souple, elle comprend tout; elle s’afflige facilement et se console de me me; elle est timide dans les manie res et hardie dans les actions; mais elle est bien attrayante”5. При всём родстве прообраза с его художественными претворениями, надо было быть Пушкиным, чтобы таким материалом вдохновиться к таким созданиям.Вот в коротком очерке поэтическое отражение в произведениях Пушкина романа поэта, – романа, в котором не было ничего идеального, кроме наружности А.П. К-н и душевных движений Пушкина. Добавлю здесь ещё только строфу из “Евгения Онегина”, относящуюся к августу 1825 года и хронологически, а ещё более своим содержанием, причастную к описанному эпизоду:
Он был любим – по крайней мере
Так думал он – и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге
Или – нежней – как мотылек,
В весенний впившийся цветок,
Но жалок тот, кто всё предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!
Посмотрите же теперь, что делает из этого романа, как пользуется им для своих целей г. Соловьёв, думая доказать, по его цитате, что “поэты и лгут много”, но к счастью доказывая только, что иногда публицисты и клевещут не скупо. Напомню его подлинные слова:
“Одно из лучших и самых популярных стихотворений нашего поэта говорит о женщине, которая в “чудное мгновенье” первого знакомства поразила его “как мимолетное виденье, как гений чистой красоты”; затем, время разлуки с ней было для него томительным рядом пустых и темных дней и лишь с новым свиданием воскресли для души “и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь”. Давно было известно лицо, к которому относилось это стихотворение, и читатель Пушкина имел прежде полное основание представлять себе если не эту даму, то во всяком случае отношение к ней поэта в самом возвышенном, идеальном освещении. Но теперь, после появления в печати некоторых писем о ней, оказывается, что её образ в стихотворении “Я помню чудное мгновенье” есть даже не то что в гегельянской эстетике называется Schein der Idee6 , а скорее подходит к тому, что на юридическом языке обозначается, как “сообщение заведомо неверных сведений”. В одном интимном письме, писанном приблизительно в то же время, как и стихотворение, Пушкин откровенно говорит об этой самой даме, но тут уже вместо гения чистой красоты, пробуждающего душу, и воскрешающего в ней божество, является “наша вавилонская блудница, Анна Петровна”.“Никому нет дела до того, какова была в действительности дама, прославленная Пушкиным”. “Если бы оказалось, что действительное чудовище безнравственности было искренне принято каким-нибудь поэтом за гения чистой красоты и воспето в этом смысле, то от этого поэтическое произведение ничего не потеряло бы не только с точки зрения поэзии, но и с точки зрения личного и жизненного достоинства самого поэта. Ошибка в фальшь не ставится. Но в настоящем случае нельзя не видеть именно некоторой фальши, хотя, конечно, не в грубом смысле этого слова. Представляя обыкновенную женщину как высшее неземное существо, Пушкин сам ясно видел и резко высказывал, что это неправда, и даже преувеличивал свою неправду. Знакомая поэта, конечно, не была ни гением чистой красоты, ни вавилонской блудницей, а была “просто приятной дамой” или даже, может быть, “дамой приятной во всех отношениях”. Но замечательно, что в преувеличенном её описании у Пушкина не слышится никакой горечи разочарования, которая говорила бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлечения, – откровенный отзыв высказан в тоне веселого балагурства, в полном контрасте с тоном стихотворения”.
“Более похоже на действительность другое стихотворение Пушкина (“Когда твои младые лета”), обращённое к тому же лицу, но и оно находится в противоречии с тоном и выражениями его писем. Нельзя, в самом деле, не пожалеть о глубоком несчастье этой женщины: у неё остался только один друг и заступник от “жестоких осуждений”, – да и тот называл её вавилонской блудницей. Каковы же были осуждения!”
“Если бы вместо того, чтобы тешиться преувеличенным контрастом между “гением чистой красоты” и “вавилонской блудницей”, поэт остановился на тех действительных зачатках высшего достоинства, которые должны же были заключаться в существе, внушившем ему хотя бы на одно мгновение такие чистые образы и чувства, если бы он не отрекся в повседневной жизни от того, что видел и ощущал в минуту вдохновения, а решился сохранить и умножить эти залоги лучшего и на них основать свое отношение к этой женщине, конечно, вышло бы совсем другое и для него, и для неё, и вдохновенное его стихотворение имело бы не поэтическое только, но и жизненное значение. А теперь хотя художественная сторона этих стихов остается при них, но нельзя, однако, находить совершенно безразличным при их оценке то обстоятельство, что в реальном историческом смысле они, с точки зрения самого Пушкина, дают только лишнее подтверждение Аристотелевых слов, что поэты и лгут много”
.Не отступите перед трудом проследить, как развязно и тщательно искажаются здесь слова и мысли Пушкина, как “смазывается” хронология, с какой невероятной бойкостью произносятся обвинения, точно Пушкин – какой-нибудь г. Гайдебуров или
Кремлев7, подлежащий новоявленному суду чести в лице г. Соловьёва. Сравните прежде всего изложение г. Соловьёва с подлинным стихотворением, в котором нет ни слова о “разлуке”, “ряде пустых и темных (sic!) дней”, или о том, что “лишь с новым свиданьем воскресли для души и божество, и вдохновенье”, а напротив, рассказано, с полной откровенностью, как поэт “забыл” небесные черты и нежный голос той, которая предстала ему когда-то “как мимолетное виденье”, так как с тех пор прошли годы и мятежный порыв бурь рассеял его прежние мечты, и как изумительно пробуждение души его совпало с новой неожиданной встречей. Если г. Соловьёв считает свой пересказ изложением, то надо думать, что он производит слово изложение от корня ложь, тем более, что и все его изложения столь же точны и правдивы, как приведённое. Обратите затем внимание на то, как искусно и мимоходом слова поэта, что для его сердца воскресло божество, то есть предмет любви и вдохновенья,Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм,
как эти слова “излагаются” в виде прославления Пушкиным гения чистой красоты, “пробуждающего душу и воскрешающего в ней божество”, то есть, подразумевается, божество в религиозном смысле. Посмотрите, как обходятся молчанием все фазисы охлаждения поэта, отразившиеся в целом ряде писем, то есть все промежуточные звенья, и настроение “излагаемого” стихотворения сопоставляется непосредственно с фразой о вавилонской блуднице в письме к Вульфу, причем читателю, между прочим, сообщается, что письмо писано “приблизительно” в то же время, как и стихотворение. Но этот прием ещё куда ни шло; но через четыре страницы у г. Соловьёва уже выходит, что поэт “тешился преувеличенным контрастом между гением чистой красоты и вавилонской блудницей”, причем Пушкину ставится в упрек, что он не сумел “остановиться на задатках высшего достоинства” в любимой женщине, а потому-де его стихотворение явилось только “изложением” его чувств, точно эти чувства были Пушкиным, а сам Пушкин – г. Соловьёвым. Пушкин, изволите ли видеть, потому лгал в своем восхищении, что в нескромной болтовне с приятелем не жаловался на горечь своего разочарования, выраженную в дивной строфе “Евгения Онегина”, едва ли неизвестной г. Соловьёву. Согласитесь сами, что редко можно встретить такую вольность в обхождении с истиной. Она напоминает приемы того фокусника, который вынимает одной рукой из-под пустых чашек шарики, которые другой сам же под них подкладывает. Конечно, и таким ремеслом можно честно хлеб зарабатывать, но для этого надо оставить в покое чистую память великих людей. Во всяком случае, славу алхимиков, мечтавших найти “философский камень”, при помощи которого было бы можно грязь обращать в золото, – эту славу затмил наш почтенный современник, открыв такое “философское изложение”, в котором даже чистое золото искреннейшей поэзии превращается в грязненькую ложь стихотворца-шарлатана.
III.
Второй пункт в статье г. Соловьёва, на котором я прошу вас сосредоточить ваше внимание, – это пересказ обстоятельств дуэли Пушкина. Вы ограничились тем, что шутя выяснили всю нелепость рассуждений г. Соловьёва; но, простите, я не могу в данном случае ограничиться шуткой и смехом.
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери;
но всего менее смешно, когда член новоявленного суда чести с видом превосходства читает посмертные назидания – кому же? Пушкину, бывшему не только великим поэтом, но и безупречно, рыцарски благородным человеком, возвышенный характер которого остается прекрасен даже в наиболее глубоких заблуждениях! Я не могу
смеяться, когда, не довольствуясь “изложением” произведений и писем поэта, г. Соловьёв начинает “излагать” и его поступки, и нравственные тайные побуждения,И сплетней разбирать игривую затею.
Вот это “изложение” в его прискорбной неприкосновенности.
“Потерявши внутреннее самообладание, Пушкин мог ещё быть спасен посторонней помощью. После первой, несостоявшейся, дуэли его с Геккерном, император Николай Павлович взял с него слово, что в случае нового столкновения, он предупредит государя. Пушкин дал слово, но не сдержал его. Ошибочно уверившись, что непристойное анонимное письмо писано тем же Геккерном, он послал ему (через его отца) свой второй вызов в таком изысканно-оскорбительном письме, которое делало кровавый исход неизбежным. Между тем, при крайней степени своего раздражения, Пушкин не дошел все-таки до того состояния, в котором прекращается вменяемость поступков и в котором данное им слово могло быть просто забыто. После дуэли у него было найдено письмо к графу Бенкендорфу с изложением его нового столкновения, очевидно, для передачи государю. Он написал это письмо, но не захотел отправить его. Он думал, что чей-то пошлый и грязный анонимный пасквиль может уронить его честь, а им самим сознательно нарушаемое слово – не может. Если он был тут “невольником”, то не “невольником чести”, как назвал его Лермонтов, а только невольником той страсти гнева и мщения, которой он весь отдался.
“Не говоря уже об истинной чести, требующей только соблюдения внутреннего нравственного достоинства, недоступного ни для какого внешнего посягательства, – даже принимая честь в условном значении, согласно светским понятиям и обычаям, анонимный пасквиль ничьей чести вредить не мог, кроме чести писавшего его. Если бы ошибочное предположение было верно, и автором письма был действительно Геккерн, то он тем самым лишил себя права быть вызванным на дуэль, как человек, поставивший себя своим поступком вне законов чести; а если письмо писал не он, то для вторичного вызова не было никакого основания. Следовательно, эта несчастная дуэль произошла не в силу какой-нибудь внешней для Пушкина необходимости, а единственно потому, что он хотел покончить с ненавистным врагом.
“Но и тут ещё не всё было потеряно. Во время самой дуэли, раненый противником очень опасно, но не безусловно смертельно, Пушкин ещё был господином своей участи. Во всяком случае, мнимая честь была удовлетворена опасной раной. Продолжение дуэли могло быть только делом злой страсти. Когда секунданты подошли к раненому, он поднялся и с гневными словами: “Attendez, je me sens assez de force pour
tirer mon coup!”8 недрожащей рукой выстрелил в своего противника и слегка ранил его. Это крайнее душевное напряжение, этот отчаянный порыв страсти окончательно сломил силы Пушкина и действительно решил его земную жизнь. Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна”.“Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешней случайностью, от него не зависевшей, а прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до конца исчерпать свой гнев”. “Мы не можем говорить о тайных состояниях его души, но два явных факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, – я разумею нарушенное слово императору и последний выстрел в противника”.
Несколько дальше говорится, что убей Пушкин Геккерна, это было бы “
убийством из-за личной злобы”, а самая дуэль со стороны Пушкина называется “добровольной”, “им самим вызванной”; наконец, в заключительных строках статьи заявляется, что “беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался ... от пути внутреннего перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к истинному самообладанию”, “и тем самым избрал второй” – “путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей”.Редко случается встречать рассуждения, основанные на столь явном извращении несомненных фактов, как выписанные строки; если же принять во внимание, что на этом пренебрежении к истине строятся самые тяжкие нарекания на память великого человека, то “изложение” г. Соловьёва становится совершенно исключительным явлением, служащим никак не к чести современной журналистики. Оставляю в стороне ту несущественную ошибку, что по изложению г. Соловьёва Пушкин, будто бы, уверился, что анонимный пасквиль писан Геккерном-сыном, тогда как он, по его собственным словам в письме к графу Бенкендорфу, “с первой же минуты догадался, что оно (анонимное письмо) от иностранца, человека высшего круга, дипломата”, и, наконец, прямо приписывает его Геккерну, то есть Геккерну-отцу, так как сына он в этом письме всё время называет д
’Антесом. Повторяю, ошибка эта несущественна, хотя, конечно, и она характеризует достоверность “изложений” г. Соловьёва: гораздо нагляднее другие.По мнению г. Соловьёва, дуэль произошла единственно потому, что Пушкин хотел уничтожить ненавистного врага; доказательствами же он считает нарушенное слово императору и последний выстрел в противника. Рассмотрим по порядку эти обвинения. Руководимый жаждой мести, Пушкин послал д
’Антесу второй вызов через его отца: это явная неправда, так как Пушкин не делал вторичного вызова, но сам получил его от д’Антеса. “Итак, я вынужден просить вас, господин барон, прекратить все эти проделки, если желаете избежать нового скандала, перед которым я, конечно, не отступлю”, – вот что пишет Пушкин: где же тут вызов на дуэль? Неужели Пушкин не знал, что вызовы пишутся “учтиво, с ясностью холодной”? “Я не мог терпеть, чтобы какие-нибудь сношения существовали между моим и вашим семейством, – писал он. – Только на этом условии я согласился оставить без последствий это грязное дело и не опозорить вас в глазах дворов нашего и вашего, на что имел и право, и намерение”: вот скандал, повторением которого угрожал он в своем письме. Не отправленное к графу Бенкендорфу письмо, писанное 21-го ноября 1836 года, то есть слишком за два месяца до дуэли, и должно было вызвать этот скандал: “Я удостоверился, что безымянное письмо было от г. Геккерна, о чем считаю долгом донести до сведения правительства и общества. Будучи единым судьей и блюстителем моей и жениной чести, а потому не требуя ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу предъявлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю”. Вот образ действий Пушкина, дышащий глубоким убеждением в правоте его дела, строжайшей корректностью, но, вместе с тем, и полным презрением к его противникам. Написав в припадке раздражения свое письмо, он имел достаточно самообладания, чтобы не отправить его. С другой стороны, Пушкин не хуже г. Соловьёва понимал, что автор анонимного пасквиля – вне законов чести и не стал бы его реабилитировать своим вызовом. Но Пушкин считал автором пасквиля Геккерна-отца, а вызов был ему сделан от имени Геккерна-сына. “По-видимому вы позабыли, – писал Геккерн с ведома и одобрения д’Антеса, – что вы сами отказались от вызова, сделанного барону Жоржу Геккерну и им принятого. Тому существует доказательство, вами писанное и находящееся в руках секундантов. Мне остается только предупредить вас, что виконт д’Аршиак отправляется к вам, чтобы условиться о месте, на котором вы встретитесь с бароном Жоржем де Геккерном, и предупредить вас, что встреча эта не терпит никакого отлагательства”. По-видимому, вполне ясно, кто вызывал, кто был вызван: однако, г. Соловьёв передает факты навыворот. Заметьте далее, как держит себя Пушкин: глубокое презрение сквозит в каждом его слове. “Посудите сами, – говорится в одном из набросков к “Египетским ночам”, – первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие”. Правилен или неправилен этот взгляд, но Пушкин его придерживался; зато вдумайтесь в ледяное презрение, сквозящее в его письме д’Аршиаку: “Так как г. Геккерн вызвал меня, он же и обиженный, то, если ему угодно, может выбрать мне секунданта; заранее принимаю его, хотя бы это был его выездной лакей”. “Я привезу моего лишь на место поединка”. “Я не имею ни малейшей охоты вмешивать в мои семейные дела праздных людей Петербурга”. Для каждого ясно, что Пушкин принимает вызов и идет на дуэль из презрения. Это холодное сознание своей правоты не покидает его и на поединке: “Полковник Данзас подал сигнал, подняв шляпу. Пушкин в ту же минуту был уже у барьера; барон Геккерн сделал к нему четыре или пять шагов”. К этому надо ещё прибавить, что первый выстрел был сделан Геккерном, а не Пушкиным. Где же тут, во всем этом, гнев, злоба, желание мести, желание крови? Перед нами ледяное презрение – и только.Но идемте далее: Пушкин, заявляет г. Соловьёв, сознательно нарушил слово императору. Посмотрим, так ли это. После смерти Пушкина у него было найдено письмо к графу Бенкендорфу, отрывок из которого я привел выше. По поводу этого письма князь Вяземский и сообщил г. Бартеневу на вопрос, почему Пушкин посвящал графа Бенкендорфа в свои семейные дела, что после несостоявшейся дуэли Пушкина с д
’Антесом, который поспешил, для её избежания, просить руки свояченицы Пушкина, император Николай Павлович, встретив Пушкина, сказал: “Я очень рад, что дело с д’Антесом кончилось счастливо. Но я беру с тебя слово, что, если когда-нибудь ты будешь находиться в подобном же положении, ты всё скажешь мне прежде, чем на что-нибудь решишься”. Пушкин дал слово. Так как сношения с императором велись через графа Бенкендорфа, то Пушкин и написал ему это письмо, но не послал его: письмо нашли у него в кармане сюртука после дуэли. Рассказ князя Вяземского не возбуждает никаких подозрений; но нет никакого сомнения, что к данному письму он вовсе не относится. Оно писано 21-го ноября 1836 года, то есть за два месяца до дуэли; стало быть, Пушкин в нем вовсе не имел в виду исполнить слово императору, которого тогда ещё и не давал, и не мог “сообщать о своем новом столкновении”, которое тогда ещё не произошло. Цель его была – ошельмовать Геккерна перед русским правительством и обществом. Но и от этой цели Пушкин отказался, поставив только условием прекращение всяких сношений между его семейством и семейством Геккерна. Оттого письмо и осталось не посланным. Во всяком случае в нем нет, да и не могло быть, так как Пушкин не был ясновидящим, никакого уведомления о будущей дуэли. Однако же, скажете вы, слово-то все-таки было нарушено. Но позвольте вас спросить, мог ли Пушкин не нарушить этого слова, когда не он вызвал на дуэль, а его вызвали? Мог ли Пушкин отступать перед дуэлью под предлогом этого слова? Его положение было глубоко трагично: он должен был нарушить слово, ибо иначе на него падало подозрение в неблаговидном уклонении от поединка, даже более того: в прямом доносе правительству на вызвавшего его противника. И без того секундант д’Антеса, настаивая на свидании секундантов до поединка, писал ему, пользуясь этим благовидным предлогом: “Барон Жорж де Геккерн просит вас поспешить устроить всё в порядке. Всякое замедление будет им сочтено за отказ в должном ему удовлетворении, а огласка этого дела помешает его окончанию”. Предоставим г. Соловьёву ставить Пушкину в упрек это нарушение слова, приписывая ему заодно инициативу в деле дуэли: мы с вами не избраны в судьи чести и нам нет необходимости демонстрировать перед публикой над мёртвыми свои способности к исполнению таких обязанностей между живыми.Предвижу ещё возражение: могут сказать, что Пушкин, правда, не сделал вызова, но что его письмо делало вызов неизбежным. Во-первых, однако, Пушкин имел уже достаточно ясное представление о нравственных качествах Геккерна и его сына, чтобы особенно стесняться с этими господами; во-вторых, если Пушкин и перешел, быть может, границы извинительной резкости в своем письме, то надо принять во внимание, что к этому времени он уже состоял в свойстве с д
’Антесом, и это делало его положение гораздо более трудным, а потому и более естественным нарушение с его стороны границ дозволительной пылкости; в-третьих, наконец, всё содержание письма показывает, что Пушкин не верил возможности дуэли с лицом, уже струсившим однажды до поединка, и потому желал только своим оскорбительным письмом сделать окончательно невозможными сношения Геккернов с его семьей, то есть наглые преследования ими жены его. Письмо Пушкина было внушено излишней запальчивостью – с этим можно согласиться; но нельзя утверждать, что Пушкин мог предвидеть последствия своего поступка. Обращаться же к содействию императора для разбора своих семейных дел Пушкин, разумеется, уже не считал возможным и уместным, хотя, быть может, это было бы целесообразнее. Во всяком случае письмо Пушкина есть не что иное, как попытка, допустим, безрассудная, но всё же попытка устранить надвигающуюся катастрофу, а никак не ускорить или приблизить её.Остается вопрос о последнем выстреле Пушкина. Прежде всего, затрудняюсь решить, откуда почерпнул г. Соловьёв столь категорически заявляемое им сведение, будто Пушкин был ранен “не безусловно смертельно”. До сих пор ни с чьей стороны не было высказано возражения на слова князя Вяземского, что на месте поединка доктора не было, но по существу полученной им раны доктор был бы и бесполезен. Но допустим также, что была возможность чудесного выздоровления Пушкина: все-таки остается загадочно, кем поставлен диагноз, каким врачом решено, что силы Пушкина надломил именно его последний выстрел. По французской поговорке даже самая лучшая корова не знает по-испански: так точно, я думаю, даже член суда чести не авторитет в медицине, особенно,
когда его мнение расходится с единогласным суждением свидетельствовавших больного докторов. Но это в сторону. Последний выстрел Пушкина подтверждает в глазах г. Соловьёва, что Пушкин сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до конца исчерпать свой гнев. Полагаю, что вам достаточно ясно из предыдущего, как достоверно это “изложение” г. Соловьёва. Ничего Пушкин не желал исчерпывать, ни сознательно, ни бессознательно. Он принял вызов ничтожного противника именно как невольник чести, как жертва трагического стечения обстоятельств, – и был убит. Пускай утешаются в этой смерти те, кто обладает тайной философского изложения, доступной только с трибунала судьи чести: для всех остальных она – неоскудевающий источник безнадежной сердечной боли и жалости к великому человеку. Не спорю: последний выстрел Пушкина – минутная слабость, вспышка возмущённого негодования. Этим выстрелом, этой вспышкой внезапного озлобления Пушкин только показал, как был он убежден, что у его противника хватит совести, что его рука не поднимется на убийство. При всем своем презрении к д’Антесу, он не считал его способным на эту последнюю гнусность, – и ещё раз в жизни обманулся. Его негодующий выстрел можно поставить ему в вину лишь тогда, если преступен крик отчаяния, стон предсмертной муки, и только Тот может его осудить или простить, пред чьим судом все мы предстанем некогда. И тогда, – говоря всем гг. Соловьёвым словами поэта, –Тогда напрасно вы прибегнете к злословью,
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.
Примечания
: Спасович Виктор Данилович (1829-1906) – известный юрист; выступал в роли защитника на процессах “нечаевцев” и других революционно-террористических групп. Автор ряда статей о русской литературе. Вл. Соловьёв посвятил В.Д. Спасовичу свою работу “Нравственность и право”. Имеется в виду статья “О г-же Сталь и о г. М-ве”, где А.С. Пушкин осуждает А.А. Муханова (1802-1834) – чья личность, скрытая за инициалами, была поэту в тот момент неизвестна – за развязный тон в отношении Жермены де Сталь (1766-1817), французской писательницы, оставившей в книге “Десятилетнее изгнание” исключительно благожелательные впечатления от России. en gros (франц.) – оптом. Вульф Алексей Николаевич (1805-1881) – друг Пушкина, сын Прасковьи Александровны Осиповой (1781-1859), помещицы с. Тригорского. Упомянутое письмо написано 7 мая 1826г. “Хотите знать, что за женщина г-жа Керн? она податлива, всё понимает; легко огорчается и утешается так же легко; она робка в обращении и смела в поступках; но она чрезвычайно привлекательна”. Предположительно из письма к П.А. Осиповой, написанного в конце июля – начале августа 1825г. Schein der Idee (нем.) – видимость (кажимость) идеи. Гайдебуров Василий Павлович (1866 – после 1940) – издатель, поэт, деятельность и сочинения которого нередко вызывали иронические отклики современников (А.П. Чехова, В.П. Буренина и др.). Вл. Соловьёв посвятил В.П. Гайдебурову стихотворение “На поезде утром” (1896 г.).Кремлёв Анатолий Николаевич (1859-1919) – драматург, журналист, общественный деятель либерального направления; литературное творчество А.Н.
Кремлёва имело, по отзывам современников, подражательный и дилетантский характер. “Постойте, у меня достаточно сил, чтобы сделать выстрел”.