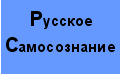Николай Ильин
Трагедия русской философии.
Глава первая. От личины к лицу
1 .§
4. О понятии “религиозной философии”.Двуликий Янус позитивизма.
О современной русской религиозной философии привыкают говорить, как о каком-то очень своеобразном порождении русского духа. Это совсем неверно. Напротив, замена богословия “религиозной философией” характерна для всего западного романтизма, в особенности для немецкой романтики. Это сказывалось и в католическом спекулятивном богословии романтической эпохи. И в русском развитии это один из самых западнических эпизодов”
[1].Автора этих слов, известного русского богослова Г.В. Флоровского (1893-1979) трудно заподозрить в какой-либо “антирелигиозности”; нельзя приписать ему и предвзятое отношение к “русской религиозной философии”, сильное влияние которой он испытал в молодые годы. Лишь постепенно ему стало ясно, насколько инороден этот “эпизод” русскому духу, насколько он чужд русскому Православию. К сожалению, и сегодня немало тех, кто считает “софиологию” и аналогичные “религиозно-философские” построения чем-то пусть не вполне ортодоксальным, но зато творческим, оригинальным – хотя речь идёт о перепеве гностических ересей, давно осужденных Церковью, повторенных на множество ладов в “теософии” Я. Бёме, Э. Сведенборга, Сен-Мартена, Джона Пордейджа и прочих, вплоть до масонской литературы начала XIX века
2 . Но увлечение “русской религиозной философией” пагубно не только для наших религиозных убеждений, не только уводит от Православия в совсем другие “духовные сферы”. Такое увлечение (пусть даже со временем преодоленное) убивает вкус к подлинной философии. Примером может служить тот же Флоровский: приобщение к идеям “русской религиозной философии” не прошло для него даром, заставило смотреть с подозрением на философию как таковую, допускать её лишь в качестве “производной” от чистого богословия. То же можно сказать и о другом талантливом богослове из русской эмиграции – В.Н. Лосском (1903-1958), сыне известного “религиозного философа”; и для него безупречна лишь та “философия”, которая прямо выводится из догматов Церкви. В итоге, по точной характеристике Л.М. Лопатина, “философия обращается в прикладное богословие” [3]. Но тогда становится невозможным подлинное сотрудничество богословия и философии, то сотрудничество, которое по сути отражает синергию Бога и человека. Ведь первоисточник богословия лежит именно в Слове Божьем, но и человек имеет право на своё слово, особенно там, где речь идёт о нём самом. Таким словом и является философия. Классики русской философии глубоко ценили самостоятельность философского знания. Но не менее важной была для них и подлинная связь философии с богословием; они сделали очень многое, чтобы прояснить и укрепить эту связь (основные результаты их труда мы рассмотрим уже в следующем параграфе). В “религиозной философии” идея такой связи была изначально искажена и фактически утрачена, что сказалось и на творчестве тех русских мыслителей, которые “дистанцировались” от искажений, но не осознали самой утраты.Вот почему способность ясно различать русскую национальную философию и её двойника в лице “русской религиозной философии” – совершенно необходима для понимания истории русской мысли в целом. Ранее мы уже определили доминанту русской национальной философии, установили её понятие, пусть пока самое общее, но необходимое для дальнейшего исследования. Теперь мы попытаемся установить понятие “русской религиозной философии”, определить её смысловое ядро. Подчеркнем этот момент. Сейчас нас интересуют не те “больной фантазии больные порожденья”, которыми так богата “религиозная философия”; мы должны сначала определить логику последней – ту логику, которой одинаково подчинялись все “религиозные философы”, как опьянённые гностическими фантазиями, так и сохранявшие относительную трезвость мысли. Приведенное выше суждение Флоровского, само по себе явно недостаточное, дает для такой попытки необходимую отправную точку
.Естественно, что о. Георгий Флоровский, будучи богословом, выносит на первый план стремление “русской религиозной философии” заменить собою православное богословие. Кроме того, он отмечает, что такая замена (а точнее, подмена) не была даже сколь-нибудь оригинальной – нечто подобное много раньше, в “эпоху романтизма”, произошло на Западе. Что сказать в связи с этим? Факт подмены сомнений не вызывает, и мы скоро подтвердим его словами самих “религиозных философов”. Но вот с прототипом подмены дело обстоит сложнее.
То, что он “западного происхождения”, в общем и целом верно. Однако распространенное представление о сугубо “романтической” подоплеке “русской религиозной философии” начала ХХ века вряд ли справедливо. На деле немецкие романтики достаточно чётко определяли задачу философии, отличную от задачи богословия. Так, крупнейший теоретик романтизма Фридрих Шлегель (1772-1829), давая “предварительную дефиницию философии”, ставил на первое место (и выделял) “познание внутреннего человека”
[4]; а в одной из своих последних работ он писал не менее определённо: “сфера философии в собственном смысле слова – это область духовной внутренней жизни между небом и землёй” [5], то есть именно в области человеческого существования. Следует отметить и тот факт, что ранние славянофилы, действительно испытавшие сильное и непосредственное влияния романтизма, не создали никакой “религиозной философии”, с её рассуждениями о “четвертой ипостаси”, “природе Абсолюта” и т.д. Философское внимание славянофилов было сконцентрировано на духовной личности и народном духе – в полном согласии с доминантой русской национальной философии. И влияние романтиков сыграло здесь в основном благотворную роль (хотя, конечно, и не только романтиков) 3 . Что касается “религиозных философов”, современников о. Георгия, то у них можно отыскать, в лучшем случае, лишь некоторые “элементы” романтизма (причем, как мы вскоре увидим, в достаточно ущербном, даже пародийном виде) – но внутренняя логика их мышления имеет совсем другой прототип. Ниже мы установим этот прототип, опираясь на их собственные попытки определить понятие “религиозной философии” – и убедимся, что по своей сути данное понятие производно не от романтизма, а от западного философского “продукта” более позднего происхождения и куда более низкого качества.Заметим далее, что Флоровский нигде не объясняет и то, почему указанная им подмена губительна не только для богословия, но и для самой философии; похоже, что эта сторона проблемы его не слишком волнует, а для нашего исследования именно она является ключевой. Кроме того, важно понять, что неуемное желание “богословствовать” в значительной мере определялось у “религиозных философов” их неумением философствовать, быть настоящими философами. К этому присоединялось, конечно, и совершенно недопустимое для православного человека небрежение словами св. Григория Богослова: “Любомудрствовать о Боге можно не всем, потому что способны к сему люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере, очищают, и душу и тело”
[6]. Ни один из “русских религиозных философов” не явил свидетельств той созерцательной (в православно-христианском смысле слова) жизни, того аскетического очищения души и тела, коих требует богословие – тем более не рядовое, а притязающее на самые вершины Богопознания. Философия, просто философия, не предъявляет столь жестких требований – почему бы людям, органически не способным к аскезе, к очищению души от всякой “злобы дня”, было не удержаться в её границах? Очевидно, потому, что задача философии, свободной от богословских притязаний, казалась им несущественной, не связанной с самыми глубокими потребностями человеческого духа. Следовательно, на вопрос: как понимали “религиозные философы” задачу философии? – тоже необходимо получить ясный ответ.Остается и ещё один, очень серьёзный вопрос. Классики русской философии постоянно подчеркивали то высокое значение, которое имела в их глазах идея христианской философии. Так, в статье “Памяти В.А. Снегирёва” его ученик Виктор Несмелов писал: “каждая эпоха христианского мира необходимо должна иметь ... свою христианскую философию, создание которой должно быть последней целью и завершением умственной деятельности каждой эпохи”
[7]. Мы уже приводили аналогичные суждения ряда других творцов русской философии, даже определили (в самом начале книги) существо их философской деятельности как создание русского типа христианской философии. И вот, приходится признать, что Г.В. Флоровский вполне чужд такому образу мыслей (это видно, в частности, из его поверхностной характеристики творчества В.И. Несмелова в той же работе); признавая несостоятельность “религиозной философии”, он не понимает того самостоятельного значения, которое имеет настоящая христианская философия наряду с православным богословием; не видит тех задач и проблем христианской культуры, которые призвана решать именно философия. И если точный анализ понятия “религиозной философии” поможет нам впоследствии при определении смысла и значения философии христианской, то проделанный в этом параграфе труд не будет чисто отрицательным 4 .Всё сказанное заставляет нас взглянуть на феномен “религиозной философии” в России (и на его эмигрантское продолжение) глубже и основательней, выяснить его собственно философскую ложь, от которой ложь богословская оказалась, как мы убедимся, в определённом смысле производной. Но для этого мы должны, конечно, дать слово самим “религиозным философам” и их апологетам; и прежде всего – посмотреть, как они определяли (или раскрывали) своё излюбленное понятие: “религиозная философия”.
Если обратиться к известным “историям” русской философии (внешняя фабула которых была рассмотрена выше, в параграфе “Ложь одиссеев”), то результат оказывается, мягко говоря, безотрадным. Н.О. Лосский и С.А. Левицкий никак не отвечают на вопрос о том, как же следует понимать “религиозность” философии вообще и русской философии в частности. Заметим, что именно такое бездумное употребление словосочетания “русская религиозная философия” стало нормой для современных авторов, как будто это чисто условное название для определённой группы мыслителей, и только. Несколько иначе обстоит дело у В.В. Зеньковского; определённая методологическая преамбула, вроде бы раскрывающая смысл этого названия, в его книге есть. Попытаемся её оценить.
Прежде всего, Зеньковский отмечает, что “общим фактом в истории философии является рождение философии, как самостоятельной и свободной формы духовного творчества, из недр религиозного мировоззрения”
[8]. Такой взгляд на генезис философии хорошо известен; одним из первых его высказал, кстати, Гегель, но высказал более точно, не используя расплывчатого выражения “религиозное мировоззрение”, а говоря, как позже Шеллинг, о мифологии 5 . Всё это, возможно, и так, хотя полезно помнить проницательное замечание Ницше: “дорога к началу повсюду приводит к варварству” [10]. Но даже если дело обстоит иначе в случае философии – нельзя считать последнюю “религиозной” (или “мифологический”) только в силу её “рождения” из религии (или мифологии). Ведь тогда надо считать религиозной и астрономию (“родилась” из астрологии), и химию (“родилась” из алхимии); первую из этих наук можно вообще объявить насквозь “религиозной”, поскольку она постоянно оперирует именами богов и мифологических персонажей! А если говорить уж совсем серьёзно, то знание о происхождении явления не тождественно знанию об его строении и смысле; “такую ошибку, связанную со смешением феноменологического и генетического анализа”, строго осудил в одной из работ ... тот же В.В. Зеньковский [11]. Со своей стороны заметим: попытка вообще разорвать связь между смыслом нашего знания и его происхождением (генезисом) столь же порочна; Л.М. Лопатин метко назвал подобный “антигенетизм” в теории познания “маленьким догматом маленьких школ”, справедливо увидев здесь “призыв к освобождению мысли от всего человеческого” [12] 6 . Поэтому беда не в том, что Зеньковский говорит о “религиозном происхождении” философии – беда в том, что он говорит абсолютно неконкретно, никак не раскрывает (хотя бы в самых общих чертах) тот сложный процесс, в результате которого философия постепенно обретала самостоятельность – а вовсе не “рождалась” из религии так, как Афина из головы Зевса.Не проясняет суть дела и переход Зеньковского к вопросу о “религиозности” русской философии. Собственно, никакого вопроса для Зеньковского здесь как бы не существует; он просто декларирует: “русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной со своей религиозной стихией, своей религиозной почвой”
[13]. Как понять это высказывание? В сочетании с категорическим “навсегда” связь философии и религии предстает здесь как нечто роковое, несвободное. Русская философия как бы не может (по причинам, о которых не говорится вовсе) порвать ту пуповину, которая соединяет её с родительским организмом религии. Можно, конечно, выразиться и удачнее, чем Зеньковский, сказав, например, что русская философия сознательно хранит свои религиозные корни, по собственной воле не отрывается от своей религиозной почвы. Но тогда возникает сомнение иного рода. Религию нельзя считать только “почвой” или “стихией”; религия – в лице Церкви, в различных формах религиозной жизни, наконец, в своём догматическом учении – это не “почва”, не “стихия” (то есть хаос), но самобытный, упорядоченный космос, полноценный “луг духовный”. А если так, то, выходит, следует признать русскую философию частью этого космоса, определённым участком этого луга? Но сказать нечто подобное Зеньковский не хочет (по причинам, которые станут постепенно понятны). В итоге о. Василий неуклюже использует метафору “религиозной почвы”, окончательно запутывая вопрос о логическом содержании понятия “религиозная философия” 7 .Открытым остается и другой вопрос, весьма существенный именно для русской мысли. Зеньковский подчеркивает связь русской философии со своей религиозной “почвой” или “стихией”. При этом подразумевается, очевидно, Православие – ведь какая ещё религия может быть своей для русского человека? Но почему только подразумевается? Почему Зеньковский и другие авторы отдают явное предпочтение выражению “русская религиозная философия”, словно речь идет о какой-то “религии вообще”? Сразу уточним, что тот же Зеньковский в работах общетеоретического характера достаточно часто говорит о “христианской философии” (другое дело – что именно говорит!), но в историческом контексте, в “Истории русской философии”, он твердо придерживается предиката “религиозная”. И пусть из этого правила встречаются исключения – но вот где нет никаких исключений, так это в выражении “русский религиозный ренессанс”. Ни Зеньковский, ни Лосский, ни Бердяев никогда не называют этот “ренессанс” православным или христианским. А собственно, почему? Ведь не считали же они, что в России начала ХХ века происходило возрождение всех конфессий? Вроде бы не считали, вроде бы имели в виду Православие. Но откуда тогда эта стойкая привязанность к анонимной “религиозности” русской философии, вместо ясного и постоянного указания на её православный или, по крайней мере, христианский характер? Невольно возникает подозрение, что связь “корифеев ренессанса” с православно-христианской почвой являлась не столь уж однозначной, как это представляет Зеньковский, говоря о связи “всегда и навсегда”. Да и была ли эта почва для них действительно своей
?Заметим, что вопрос об анонимной “религиозности” снялся бы сам собой, если бы Зеньковский и прочие говорили не о “религиозной философии”, а о философии религии. Вот здесь действительно не надо уточнять, о какой религии идет речь, поскольку философия религии должна быть способна к философскому анализу любой религии. В.И. Несмелов отмечал совершенно верно, что философия религии “выходит не из исповедания религиозной веры, а только из критики ее, но зато уж она и не приходит к замене религии метафизической доктриной, а только к признанию или отрицанию содержания религиозной веры, как истинного или ложного”
[14] 8 . Заметим, что слово “критика” не является синонимом слова “отрицание”;Впрочем, к суждениям С.Л. Франк о понятии “религиозной философии” мы обратимся чуть ниже. А пока приходится признать, что у наиболее авторитетного летописца “русской религиозной философии” В.В. Зеньковского мы не нашли сколь-нибудь вразумительной (и достаточно общей) характеристики основного предмета его обширного исследования. Но, может быть, дело обстоит лучше у самих корифеев “религиозно-философского возрождения” в России начала ХХ века? Рассмотрим сначала точку
зрения одного из первопроходцев этого “возрождения”, знаменитого своей “софиологией” С.Н. Булгакова – тем более, что в книге “Свет невечерний” (1917), которая так и осталась его самым ярким и насыщенным произведением, он с похвальной прямотою ставит и даже выделяет вопрос: “Возможна ли и в каком смысле возможна религиозная философия?” [16].Поначалу кажется, что Сергей Булгаков подходит к этому вопросу более основательно, чем Зеньковский; отметив роль мифологии в происхождении философии, он не пытается вывести “религиозность” последней только из этого генетического момента. Ключ к пониманию возможности и необходимости “религиозной философии” Булгаков ищет в понятии трансцендентного. “Религия есть переживание трансцендентного” – пишет он, добавляя: “Бог есть Трансцендентное”
[17]. На первый взгляд, здесь указано то звено, которое действительно соединяет философию с религией: ведь проблема трансцендентного составляет, несомненно, важнейшую проблему философии, её собственно метафизическую проблему, о чём мы уже говорили в связи с пониманием метафизики в трудах П.Е. Астафьева, Л.М. Лопатина и других. Но сразу возникает вопрос: можно ли просто отождествлять “трансцендентное” с Богом, как это делает Булгаков? Такое отождествление сомнительно не только потому, что учение о трансцендентном можно развивать и в откровенно атеистическом ключе (в ХХ веке типичным примером является “фундаментальная онтология” М. Хайдеггера). Более принципиальным (и роковым для аргументации Булгакова) является то обстоятельство, что понятие о “трансцендентном”, несомненно, шире понятия о Боге; а кроме того (и это особенно важно), каждый человек постоянно вступает в такое “отношение к трансцендентному”, которое не является отношением к Богу.О каком отношении идёт речь? Как отмечал Л.М. Лопатин, “сознание других людей для нас трансцендентно самым несомненным образом; мы не видим и не воспринимаем прямо ни чужих мыслей, ни чужих желаний; мы можем только о них догадываться по чужим словам и чужим поступкам; о чужой душевной жизни мы можем лишь строить разные предположения, но она закрыта для нас в своей внутренней действительности”
[18]. Вот настоящая азбука метафизики, которую так и не освоил Булгаков, сразу взявшись за “высшую алгебру”; эта азбука учит нас, что “отношением к трансцендентному” пронизана вся наша жизнь среди других людей; проблема трансцендентного является по своей сути проблемой внутренней жизни другого существа. И потому для постановки этой проблемы философия вовсе не обязана быть “религиозной” – она должна лишь ясно понимать свой метафизический характер. Обратим внимание на этот момент. Булгаков фактически подменяет идею метафизики идеей “религиозной философии”. Ни к чему хорошему такая подмена не приводит; почти сразу после деклараций о сугубой “трансцендентности” Бога наш автор начинает доказывать относительность понятий “трансцендентного” и “имманентного”, стирать между ними сколь-нибудь ясную грань. Самого Бога он начинает называть не Трансцендентным, а “трансцендентно-имманентным”. И пусть это отчасти верно – что же остается от аргументов Булгакова в пользу “религиозности” философии? Ведь “трансцендентно-имманентным” является любой реальный предмет познания, даже внутренний мир самого познающего, всегда известный ему лишь отчасти, имеющий свою скрытую глубину – которая заявляет о себе в проблемах “бессознательного”, “подсознательного”, “предсознательного” и т.п.Будем объективны: С.Н. Булгаков верно назвал одну из точек соприкосновения философии и религии; метафизический пафос философии, несомненно, имеет глубокое родство с пафосом религиозных исканий, хотя отнюдь не совпадает с последним. Мы уже отмечали, что в таком ключе раскрывал связь философии и религии П.Е. Астафьев – на четверть века раньше, в работе “Вера и знание в единстве мировоззрения” (1893), которая у Булгакова не упомянута; да и вряд ли у него был досуг и желание читать “ретрограда” Астафьева во время прыжков от Маркса к Канту, а от Канта к Соловьёву. Разрыв с национальной философской традицией (критически усвоившей, как отмечалось ранее, и подлинные достижения европейской мысли) не прошёл даром; Булгаков очень быстро сбивается с выбранного пути, а через десяток страниц почти демонстративно с него сходит, переводит разговор о “религиозной философии” совсем в иную плоскость. А именно, убрав все теоретические декорации, отбросив всякое “трансцендентное” и, по сути дела, перечеркнув весь ход собственной мысли, С.Н. Булгаков призывает, в конце концов, к “пониманию религиозной философии, как вольного художества на религиозные мотивы”
[19]! Вот определение “религиозной философии”, которое оказывается у него окончательным; в дальнейшем он так и говорит: “художник понятий, то есть религиозный философ”. Результат, прямо скажем, смехотворный и к тому же отдающий плагиатом, притом неудачным. В своё время немецкий кантианец Ф.А. Ланге (1828-1875) назвал поэзией понятий философию германского идеализма после Канта [20]; и эту не слишком точную (хотя и ставшую ходячей) остроту С.Н. Булгаков использует для определения самой сущности “религиозной философии”!Вряд ли подобное “определение” требует серьёзного философского разбора. Заметим только, что продемонстрированный Булгаковым “скачок мысли” имеет весьма отдаленное сходство с суждениями немецких романтиков. Новалис, действительно, говорил: “Поэзия...это ядро моей философии”
[21] – но он и был настоящим поэтом, и его “философемы” действительно производны от оригинальных художественных творений. О наличии последних у С.Н. Булгакова мы что-то не слышали. Он только совершает очевидную подмену понятий: ведь “вольное художество на религиозные мотивы” – это именно религиозное искусство; причем же тут философия? Для нее в “дефиниции” Булгакова по сути нет места. Все это, повторяю, совершенно несерьезно с философской точки зрения. Но вот с точки зрения богословской здесь необходимо сделать, по крайней мере, одно весьма существенное замечание. “Религиозные догматы ищут все новых воплощений в философском творчестве” – утверждает Булгаков. Спросим теперь: имеет ли подобное утверждение хоть что-то общее с основным пафосом православного богословия, православной духовности вообще? По крайней мере, русская православная духовность всегда исповедовала совсем другое отношение к догматам Церкви. Отношение, суть которого прекрасно выразил Н.Я. Данилевский, подчеркивая “строго охранительный характер религиозной деятельности все тех народов, которым религиозная истина была вверена для охранения и передачи в неприкосновенной чистоте другим народам и грядущим поколениям” [22]. Хранить истину Православия в неприкосновенной чистоте – вот императив русской православной духовности. Это не отменяло напряженного размышления над догматами, не отменяло их раскрытия – но раскрытия, непременно связанного с “точнейшим их формулированием”, по выражению того же русского мыслителя. Никаких “все новых воплощений”, никакой игры творческой фантазии (без которой нет настоящей художественности) Православие в области догматов просто не допускает. И С.Н. Булгаков фактически признает, что дело обстоит именно так, заявляя: “Мудра была в этом отношении практика эллинской, а также и иудейской религии, которые предпочитали совсем не иметь официального богословия”. Как говорится, приехали. Эллины и иудеи в качестве образца для христиан в отношении к богословию – это, конечно, апофеоз “вольных художеств”. И вот с таким-то “религиозным сознанием” С.Н. Булгаков принял (естественно, после февральского переворота) сан священнослужителя...Мы видим, что рассуждения видного представителя “религиозной философии” ничего не дают для понимания её философского смысла, хотя и иллюстрируют весьма наглядно то, что и подметил Флоровский – инородность этого явления по отношению к Православию (а по отношению к русскому пониманию Православия – в особенности).
Но не будем опускать руки и продолжим поиск адекватного понятия “религиозной философии” у самих представителей этого направления в России. И здесь естественно обратиться к С.Л. Франку, который был, как-никак, “вершиной русской философии вообще” в глазах её летописцев типа Зеньковского. А где же, как не на “вершинах”, искать ясных и глубоких понятий? Правда, мы только что отметили “витание” Франка между терминами “религиозная философия” и “философия религии” – но, в конце концов, нельзя же выносить окончательное суждение только на основании подзаголовка одной из его книг! Обратиться к помощи Франка нас побуждает и то обстоятельство, что перед самым отплытием из России он издал небольшую книжку “Введение в философию” (СПб., 1922 г.); а от книг такого рода (если они написаны талантливой рукой) можно ожидать пусть и не самых глубоких, но достаточно ясных и точных
определений, умелого раскрытия основных понятий. Более того, едва оказавшись в эмиграции, Франк напечатал статью “Философия и религия” (Берлин, 1923 г.) – прямо по волнующему нас сейчас вопросу. Казалось бы, на основе двух названных работ можно установить, как понимал этот знаменитый “религиозный философ” и философию вообще, и “религиозную философию” в частности. В каком-то смысле, многое действительно становится ясным – но результат получается ещё более неожиданным, чем “вольные художества” С.Н. Булгакова.Определение философии мы находим в самом начале первой из вышеназванных работ; выделенное самим Франком, оно звучит так: “Философия есть рационально или научно обоснованное учение о цельном мировоззрении”
[23]. Определение, прямо скажем, крайне тривиальное; нечто подобное можно найти во множестве “введений”, написанных до Франка 10 . Тривиальное, впрочем, достаточно часто бывает верным; но можно ли сказать это в данном случае? Прежде всего, мы видим, что Франк прямо отождествляет присущую философии рациональность с научностью. Но тем самым понятие философии ставится в прямую зависимость от понятия науки. Теперь мы должны спросить Франка: что такое “наука” и “научность”? Конечно, слово “наука” можно использовать просто как синоним “области знания”, “дисциплины”, “учения” (что порой делали и классики русской философии; например, В.И. Несмелов кратко определял философию как “науку о человеке”, имея в виду философское учение о человеке). Но ясно, что для Франка слово “наука” имеет какое-то более концептуальное значение, иначе его выражение “научно обоснованное учение” теряет всякий смысл. А тогда возникает следующий вопрос: существует ли разница (и если существует, то какая) между обоснованием научным и обоснованием собственно философским? Франк уходит от этого вопроса именно в той книге, где на него следует ответить максимально точно, чтобы читатель понял все своеобразие философии, своеобразие “философского взгляда на вещи”. У Франка же философия оказывается прочно прикованной к науке и “научности”. Не меняет дело и то обстоятельство, что чуть ниже Франк выражает связь философии и науки несколько конкретнее, говоря: “нужна особая наука, которая уясняет и проверяет высшие общие посылки и понятия всех специальных наук и таким образом создает систему цельного знания... Такая наука и есть философия” [24]. Мы видим, что и при таком уточнении существование философии поставлено в зависимость от существования “специальных наук”, без которых философии просто нечего делать, нечего “уяснять и поверять”! По этой причине ту “особую науку”, о которой говорит Франк, уместно называть методологией науки или, в лучшем случае, “философией науки” – но никак не философией вообще. Кроме того, у вдумчивого читателя обязательно возникнет вопрос: а кто будет “уяснять и проверять” посылки и основания самой философии? Или последняя обладает какой-то загадочной способностью устанавливать принципы, не требующие посторонней “проверки”, способностью самоуяснения? Но тогда и метод философии не “научный”, а принципиально иной.Классики русской философии понимали, что метод (то есть путь) самопознания требует, по выражению Страхова, “как бы особого рода мышления”
[25], особого типа рациональности, который вовсе не известен науке, достигающей своих целей с помощью последовательного “объективирования” всех явлений [26]. В итоге благодаря науке “мы все больше узнаём, что такое дух не есть”, “как не следует понимать духовное” [27]. Другими словами, знание науки необходимо философу прежде всего для того, чтобы познавать иначе, чем ученый 11 . Во “введении” Франка об этом нет ни слова; и потому тот “вход” в философию, который им предлагается – оказывается на деле выходом из философии, в тупик сакраментальной “научности”, этого идола, творцы которого в европейской мысли XIX века хорошо известны.Не будем, однако, спешить и спросим: как из приведенного выше определения философии у Франка можно извлечь хоть какую-то “религиозность”? Оказывается, можно. Несколько ниже на страницах “Введения” появляется и термин “религиозная философия” – появляется на манер зайца, которого ловкий фокусник достает из шляпы, где, по здравому смыслу, никакого зайца быть не должно. Каким образом? Очень простым: С.Л. Франк, ничтоже сумняшеся, ссылается на “целостную философскую систему, которая всегда есть (независимо от содержания своих идей) религиозная философия (так, атеизм есть тоже своеобразная, хотя и только отрицательная, религиозная философия)”
[28]. Итак, получается, что любая универсальная философская доктрина, в том числе и атеистическая (скажем, тот же диалектический материализм) автоматически оказывается “религиозной”! “Научность + цельность = религиозность” – вот уравнение Франка. Уравнение, из которого становится совершенно ясен настоящий прототип “русской религиозной философии”.Но прежде, чем назвать его по имени, посмотрим, как сопрягается такое понимание “религиозной философии” с тем, что тот же автор писал год спустя, уже за пределами России. На первый взгляд, никак не сопрягается. Действительно, теперь Франк заявляет вполне категорически: “единственный предмет философии есть Бог”; и далее: “Философия по существу, по целостной и универсальной задаче своей, есть не логика, не теория познания, не постижение мира, а Богопознание”
[29]. Налицо прямо-таки полемика с самим собою годичной давности – ибо о каком “рационально или научно обоснованном учении” можно говорить без логики и теории познания, о каком “целостном мировоззрении” – без “постижения мира”? Да и сохранившаяся апелляция к “целостному и универсальному” характеру философии получает теперь диаметрально противоположный смысл: если у Франка 1922 года именно универсальность философии делала её религиозной (независимо от отношения к Богу), то Франк 1923 года уже считает, что, сделав Бога “единственным предметом философии”, мы как раз и получим универсальное знание (включающее, по-видимому, и те “понятия специальных наук”, рассмотрения которых Франк требовал от философии годом раньше). Есть чему подивиться. Но ещё поучительней то, что результат этих двух определений философии по существу один.А именно: понятие философии оказывается у Франка фактически излишним. В одном случае его заменяет понятие науки (если включить в него, как обычно и делается, методологию научного знания); а для дисциплины, “единственным предметом” которой является Бог, тоже есть свое, давно известное название: богословие, или теология. Неслучайно в той же статье Франк считает “неудачным” схоластический принцип: “философия – служанка теологии”; но не потому, что дорожит самостоятельностью философии, а потому, что для него философия и есть теология. Однако точные слова “богословие” или “теология” любителю свободных витаний не по вкусу; он предпочитает говорить “религиозная философия” или “философия религии”, хотя в свете его второй дефиниции это звучит как чистой воды тавтология. Впрочем, такое упорное нежелание называть вещи своими именами понятно. Ведь наряду с псевдотеологией Франка существует и настоящая теология, та, которую С.Н. Булгаков называл “официальным богословием”. Отношение к последнему у Франка такое же, как и у любителя “вольных художеств”; в одном из своих писем он заявляет: не следует “боязливо оглядываться на церковное начальство и предание”
[30]. Уже этот знак равенства между преданием и “церковным начальством” говорит сам за себя. Замечу только: хотя Семен Франк действительно “не оглядывался” на предание, хранимое Православием, он постоянно оглядывался на упомянутого выше “бессмертного” кардинала, на полупротестанский-полуиезуитский “янсенизм” Паскаля и на многое другое, что наверняка одобряет иное “начальство”.И ещё: я вовсе не намерен превращать С.Л. Франка в какого-то “мальчика для битья” за все глупости и нелепости “русской религиозной философии”. Приходиться признать, что в период острого кризиса
русской мысли роковое смешение философии и религии (а точнее, богословия) заводило в трясину “сверх-вероисповедной религиозности” и мыслителей иного склада. Примером может служить И.А. Ильин (которому и принадлежит выделенное сейчас уродливое выражение), особенно его работа “Религиозный смысл философии. Три речи” (1925), производящая не менее (если не более) тягостное впечатление, чем рассуждения Франка. Здесь мы находим те же бесплодные осцилляции между пафосом “научности” философии и пафосом её “религиозности” – вплоть до провозглашения философии не только “богопознанием”, но и “подлинным богослужением” [31]. Нам сообщается, что “философия, по слову Гегеля, есть культивирование религиозного содержания”, что она “исследует всё в меру его божественности” и т.д. и т.п. (замечу ещё раз, что я везде воспроизвожу авторские выделения). Остается непонятным, чем эта “религиозно-философская” околесица могла не угодить Зеньковскому – разве что простодушной ссылкой на Гегеля, а не на “бессмертного Кардинала”. Впрочем, один принципиальный момент стоит отметить особо. Несмотря на все эти громогласные заявления, Иван Ильин нигде и никогда не предлагал своего учения о Боге (или Абсолюте), не создал никакой “религиозной философии” по типу “софиологии” Булгакова или “системы всеединства” Франка. На деле, как самостоятельный мыслитель, Ильин исследовал только акты человеческого духа, непосредственно направленные к Богу, пытался построить метафизику и психологию религиозной души (наиболее полно и удачно – в “Аксиомах религиозного опыта”) – то есть никогда не переходил законных пределов философии, углублял самопонимание человека в качестве субъекта религиозной веры и религиозного опыта. А там, где для понимания религиозной жизни человека требовалось определённое понятие о Боге – Ильин прямо обращался к учению Православной Церкви, брал это учение во всей его чистоте, а не “развивал” и не “дополнял” его с помощью гностических домыслов 12 .Совсем иначе поступали настоящие представители “русской религиозной философии”; они постоянно вторгались в область теологии – но не для того, чтобы усвоить Предание, принять истину христианского Откровения, а чтобы “дополнить” Откровение своими мнимыми “открытиями”. Что касается Франка, то на этой “вершине” безнадежная путаница понятий становится особенно заметной (в этом смысле Франк, действительно, “вершина”). Причем мы ясно видим, что он совершает известную логическую ошибку qui pro quo (одно вместо другого) дважды: один раз – смешивая философию с наукой, а второй – с теологией. Иллюстраций к этой ошибке можно подобрать множество, и не только из работ Франка; можно обратиться, скажем, к творчеству П.А. Флоренского, где философское обоснование подменяется то заумной “математической” аргументацией (рассуждениями о “трансфинитном числе” и проч.), то призывами следовать в философии ... примеру Авраама, который “пошёл, не зная, куда идет”
[32]. Но суть дела уже совершенно понятна: в трудах корифеев “религиозной философии” вопрос о природе и существе самой философии превращается в вопрос о “научности” или “религиозности” философии. Последняя ставится перед совершенно ложным, хотя и широким выбором: или она – “научная философия”, или она – “религиозная философия”, или она – и то и другое вместе. Нам как бы протягивают монету, предлагая поставить на “орла” или “решку”, а любителям беспроигрышных игр – на обе стороны сразу. Но это – фальшивая монета, настоящее имя которой: позитивизм.Именно понимание общего феномена позитивизма имеет ключевое значение для понимания частного случая “религиозной философии”. Что такое позитивизм? По своей сути это явление сугубо отрицательное, это “принципиальная” слепота к самостоятельному значению философии, непонимание её особой задачи, отрицание её собственного метода. На этот ключевой момент справедливо указал П.П. Блонский (1884-1941), когда писал: “и религиозная и научная философия знаменуют собой кризис подлинной “философской” философии”
[33]. Позитивизм потому и считает себя “положительным”, что не видит ничего положительного в философии как таковой; по утверждению родоначальника “научной” версии позитивизма Огюста Конта (1798-1857), философия, не подчинившая себя “духу позитивизма”, не поставившая себя в зависимость от каких-то внешних для нее “положительных данных”, обладает сразу четырьмя негативными качествами: химеричности, бесплодности, сомнительности, смутности [34]. И преодолеть эти пороки из себя самой, своими силами философия не может – она должна обязательно “вступить в синтез” с чем-то другим, что не страдает ими, что может существовать и без философии. С точки зрения Конта философию спасал “синтез” с наукой, превращение в “научную философию”. Примерно в те же годы Фридрих Шеллинг (1775-1854) разработал аналогичный план “спасения” философии, преодоления её “негативности” – путем “синтеза” философии с другой “положительной” величиной – религией 13 . Так стали расти бок о бок два близнеца: “научная философия” и “религиозная философия”, призванные на смену философии как таковой. И происходило это, что весьма знаменательно, именно тогда, когда в России только начала утверждаться и приносить первые плоды воля к философии. Утверждаться, естественно, с учетом всего, что происходило в европейской философии, чутко воспринимая её влияния.Другими словами, русская философия оказалась в положении “витязя на распутье”, решавшего, какой путь предпочесть: прямой, ведущий к самой философии, или два других, где философия живет не за счет собственных ресурсов, а за счет достижений науки и откровений религии. Вот та драматическая ситуация, в которой происходило становление русской философии. И в лице своих лучших представителей русская философия выбрала именно прямой путь и оставалась верна ему в течение всей второй половины XIX века, за очень немногими исключениями. Но сегодня именно эти исключения выдаются за правило, за “основное содержание” русской философии XIX века. Вот почему это содержание оказывается крайне бедным. Фактически оно включает не русскую философию в собственном смысле слова, а две разновидности позитивизма в России: “научную философию” и “религиозную философию”. Что касается философии как таковой, или метафизики – она, по большому счету, выносится на обочину русской мысли. В следующих разделах мы будем уделять основное внимание именно собственно философскому, или метафизическому в русской философии. Но сейчас необходимо довести до конца анализ понятия “русской религиозной философии”, обратившись теперь к её настоящему истоку в России и прототипу на Западе.
Ещё раз подчеркну: помещать у этого истока таких мыслителей, как И.В. Киреевский и А.С. Хомяков – это значит оскорблять их память, притом без серьёзного на то основания. Да, они в чем-то ошибались, в их творчестве можно найти отголоски (хотя вряд ли нечто большее, чем отголоски) “положительной философии” Шеллинга, “синтетических” устремлений романтиков и т.п. (о чем нам ещё предстоит говорить особо). Но не эти отголоски и увлечения составляли суть их философских воззрений. Для И.В. Киреевского сущность христианской философии (выражение “религиозная философия” у него нигде не встречается) состоит в том, что она “возводит ум к живому сосредоточию самопознания”
[35], – идея, которую разделяли, проясняли и углубляли классики русской национальной философии, но отнюдь не “религиозные философы”. Что касается А.С. Хомякова, то он ясно выразил свою солидарность с Иваном Киреевским именно в этом вопросе [36] (хотя, на наш взгляд, и не вполне понял всю глубину воззрений своего друга). Но даже если допустить, что Хомяков порою склонялся к роковым заблуждениям в духе “религиозной философии” – тем не менее, и он только склонялся; между творчеством Хомякова и будущей “религиозной философией” пролегает грань, которую нельзя не заметить. Замечает её даже такой современный автор, как С.С. Хоружий (совсем не видящий настоящих продолжателей всего лучшего в славянофильстве), когда восклицает: “можно ручаться, что Хомяков никогда бы не признал систему Соловьёва своей!” [37]. Имя подлинного предтечи “религиозной философии” в России названо. И не просто “предтечи”. Именно в творчестве В.С. Соловьёва была впервые (на русской почве) выражена ключевая идея позитивизма вообще, выродившаяся позже, в сочинениях его эпигонов, в однобокую “религиозную философию”. И решающее влияние при определении этой идеи оказал на Соловьёва не Шеллинг, а именно Огюст Конт. Рассмотрим данный аспект деятельности В.С. Соловьёва подробнее (отложив целостный взгляд на его учение, где Конт, конечно, дополнился и каббалой, и спинозизмом, и худшим у Шеллинга, до специальной главы).Отметим, сначала, что мы могли бы просто сослаться на упомянутый ранее восторженный дифирамб Конту, пропетый Соловьёвым уже на исходе жизни, в речи “Идея человечества у Августа Конта” (1898 г.). Здесь Соловьёв вполне серьёзно заявляет, что Конт “заслужил себе место в святцах христианского человечества” – заслужил несмотря на то, что был, по словам самого Соловьёва, “безбожник и нехристь”
[38] (вспомним аналогичные, хотя и более отвлечённые рассуждения Франка об атеизме как “религиозной философии”). Далее, в своей речи Соловьёв открыто возводит к Конту идею “богочеловечества” (у Конта – “Великое существо”, le GrandМагистерская диссертация Соловьёва (защита которой состоялась в 1874 г.) носит название “Кризис западной философии” и имеет подзаголовок “против позитивистов”. На деле же в этой работе нет ни понимания “кризиса”, ни настоящего “против”. Более того, диссертация дает самую оптимистическую оценку “новейшей философии
” Запада и её “последним необходимым результатам”. Какие же это результаты? Приведем слова Соловьёва, с его собственными выделениями: “Опираясь с одной стороны на данные положительной науки, эта философия с другой стороны подает руку религии. Осуществление этого универсального синтеза науки, философии и религии – первое и далеко ещё не совершенное начало которого мы имеем в “философии сверхсознательного” – должно быть высшей целью и последним результатом умственного развития” [40].Уточним, что под “философией сверхсознательного” Соловьёв имеет в виду имевшее в те годы шумный успех на Западе учение Эдуарда фон Гартмана (1812-1906), автора “Философии бессознательного”. Чем же пленил этот мыслитель Владимира Соловьёва? По мнению последнего, Гартман нашёл “истинный синтетический метод философии”, понятый его русским поклонником, как метод “синтеза” философии с религией и наукой. Понятый, заметим, неверно; сам Гартман на деле решал внутреннюю проблему философской мысли, пытаясь соединить панлогизм Гегеля и волюнтаризм Шопенгауэра
15 . Другими словами, ещё молодой Соловьёв, якобы “борец с позитивизмом”, воспринял идеи Гартмана сугубо нефилософски, вполне “в духе позитивизма”, с его поиском “положительных данных” вне философии. Весьма характерно и то, что через несколько лет, в своей докторской диссертации “Критика отвлеченных начал”, Соловьёв забывает о Гартмане, но продолжает отстаивать ту же идею “синтеза”. И понятно – тогда на Западе только о том и твердили, особенно известный последователь Конта, английский позитивист Герберт Спенсер (1820-1903), провозглашавший идеал “синтетической философии” на всех углах. Правда, и у Спенсера все-таки преобладал уклон в синтез философии с наукой 16 ; зато Соловьёв взялся именно за религиозную сторону того же дела, начав, естественно, с нападок ... на теологию, которой якобы присущ “отвлеченный догматизм” (вспомним по сути те же упреки со стороны Булгакова и Франка). Необходимо, заявляет Соловьёв, “поставить теологию во внутреннюю связь с философией и наукой и таким образом организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии” [41]. Итак, около 1880-го года В.С. Соловьёв находит и подобающее название для гибрида, порождаемого “синтезом” религии, науки и философии: свободная и научная теософия. “Свободный” характер теософии означает, очевидно, её свободу от “догматического богословия” Православной Церкви. Но где же здесь философия, хотя бы как элемент “синтеза”? Присутствие философии обозначено, по-видимому, превращением теологии в тео-софию, то есть обрубком её прекрасного имени 17 ; а затем, уже у эпигонов Соловьёва и до наших дней, этот обрубок стал ковылять дальше, порождая “софиологию”, “историософию”, “антропософию” и прочие уродливые эрзацы философии.Полная нежизненность Соловьёвского проекта “свободной и научной теософии” обнаружилась очень скоро, уже в его собственных трудах, а затем и в трудах его продолжателей и подражателей. Термин “религиозная философия” и стал, по сути дела, свидетельством того, что этот проект не состоялся. Впрочем, потеря ссылки на “научность” (ссылки, изначально нелепой в устах человека, вполне научно безграмотного), не означала отказа от позитивизма, не привела к пониманию самобытности философии, её способности “стоять на собственных ногах” (по выражению Б.Н. Чичерина в полемике с В.С. Соловьёвым). Иначе и не могло быть. Творчество Владимира Соловьёва, ставшее неким эталоном всей дальнейшей “религиозной философии” в России, началось, как мы видим, с фактической капитуляции перед позитивизмом, с усвоения именно того взгляда на философию, который утверждался позитивизмом, отрицавшим не право философии на существование вообще, а именно её право на самостоятельное существование.
Евангелие говорит: “горе миру от соблазнов, ибо надлежит придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит” (Мф. 18.7). Соблазн позитивизма пришёл в русскую философию именно через В.С. Соловьёва. Конечно, позитивисты были в России и до него; например, чисто “научный” позитивист В.В. Лесевич (1837-1905). Но в лице Соловьёва позитивизм приобрел именно принципиального
союзника, усвоившего сам принцип позитивизма, а не его “научную” форму. Вместе с тем, Соловьёв оставался, по существу дела, русским эпигоном позитивизма, а конкретнее – эпигоном Огюста Конта, независимо от того, ратовал ли Соловьёв “за” Конта или “против” него. И потому определение самой парадигмы позитивизма (той логической структуры, которая просвечивает сквозь его “научную” оболочку) уместно провести, обратившись прямо к идеям О. Конта. Сделав это, мы ясно увидим, что точно та же парадигма составляет логическое ядро, или понятие “религиозной философии”.Основной
tour de force, или ловкий фокус позитивизма заключается в том, что он, отрицая самобытность философии, предлагает ей взамен универсальность. Это сочетание – отрицание самобытности и утверждение универсальности – оказалось весьма эффективным при воздействии позитивизма на определённые струны русской души 18 . Но сейчас мы посмотрим, как конкретно осуществился этот ловкий ход в “научном” позитивизме Конта. Уже отмечалось, что настоящее положительное значение признается у Конта только за теми результатами, которые получены в рамках различных частных наук – “астрономических, физических, химических, физиологических и социальных, которые, очевидно, обнимут все доступные наблюдению явления” [42]. Без этих результатов наше знание остается бессодержательным, ибо никакого своего содержания философия к ним якобы не прибавляет. Заметим, что здесь Конт по-своему прав; мы уже вспоминали о том, что Сократ начинал философию с предельно “пустого” и “отрицательного” (с нефилософской точки зрения) положения: “я знаю, что ничего не знаю”. Но проникнуть в глубину, в настоящий смысл этого начала пошлый (хотя и наблюдательный) взгляд Огюста Конта не мог; не мог увидеть того, что увидел, например, Павел Бакунин, отмечавший: “кто знает в себе самом, что не знает ничего, тот уже вмещает в себя великое знание” [43] – ибо обладает ясным самосознанием.Тем не менее, не мог Конт ограничиться и простым отрицанием философии, и вот почему. Предположим, что совокупность наук (как названных, так не названных Контом) действительно “обнимает все явления”. Но беда в том, что мы имеем множество наук, но вовсе не имеем единой науки, науки как таковой. А ведь “всеохватность” научного знания имеет цену только тогда, когда все фрагменты соединяются здесь в нечто цельное, в систему, в “научную картину мира”. Конт прекрасно понимал, что простым сложением результатов отдельных наук такую систему не получить; с другой стороны, именно единство системы он ценил выше всего, утверждая: “Истинная философия ставит себе задачей по возможности привести в стройную систему все человеческое личное и в особенности коллективное существование”
[44] 19 . Отметим, что Конт требует привести в “стройную систему” не только человеческое знание, но даже существование – мотив, который зазвучит у Соловьёва и его эпигонов с особенной силой. Таким образом, французский позитивист ясно определяет задачу философии: не имея по-настоящему своей задачи, философия, тем не менее, необходима – чтобы привести принципы и результаты отдельных наук в систему, осуществить “универсальный синтез” всех областей знания, превратить конгломерат наук – в единую науку.Отметим уже сейчас немаловажный момент, который нам ещё предстоит рассмотреть подробнее. Концепция О. Конта является типичным примером той тяги к “искусственной систематизации знаний”, о которой говорил Н.Я. Данилевский – и которой он противопоставил стремление к естественной системе
[45]. Также и здесь проходит водораздел между русской национальной философией и её “русскоязычным” двойником. Строго говоря, беда не в том, что Соловьёв или Франк увлеклись идеей системы; беда в том, что они не поняли (даже не захотели понять) то принципиальное различие, которое существует между системой естественной и системой искусственной; взяли за образец именно последнюю, создавая “систему ради системы”, насильственно сводя все многообразие знания и бытия в некое благостное “всеединство” Также и в этом проявилась слепота “религиозных философов” к трагичности человеческого существования (где разъединение в одних отношениях столь же необходимо, как и единство в других); слепота, характерная для всех позитивистов.Итак, согласно “научному” позитивизму, философия – это метод превращения отдельных наук в единую науку; первые составляют фундамент философии, дают ей фактический (“опытный”) материал, а вторая – составляет цель философии. Отсюда вытекает логическая схема “научной философии”, представленная на рис. 1.
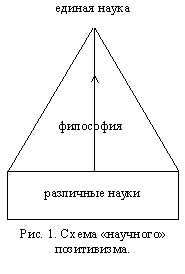
Заметим, что сторонника “научной философии” бесполезно спрашивать, какую науку он имеет в виду; он спокойно ответит, что надо рассмотреть все науки, привести их в полное всеединство. Другое дело, насколько реальна такая программа. История научного позитивизма показывает, что никакого сбалансированного подхода здесь не получается. Перевес получает чаще всего физика (Р. Карнап и прочие “физикалисты”), нередко математика (Б. Рассел и другие представители “логического позитивизма”), иногда биология (А. Гелен и вообще позитивисты с “биоантропологическим” уклоном); а в период явного кризиса, исчерпания всех творческих ресурсов позитивизма – лингвистика, точнее, абсолютизация феномена языка
20 . Но в любом случае позитивизм превращает философию в функцию отдельных наук (каких именно и в каком количестве – другой вопрос). Именно такую функцию увидел в философии и Соловьёв, наивно думая, что тем самым он “преодолел позитивизм”. Я имею в виду ту “критику позитивизма”, которую Соловьёв дал в статье о Конте для “Энциклопедического словаря” Брокгауза – Эфрона. Замечу, что эта статья по объёму намного превосходит написанные тем же Соловьёвым статьи о Платоне и Гегеле и лишь самую малость уступает статье о Канте. Факт, говорящий сам за себя. Но ещё интереснее “критические суждения” Соловьёва в конце статьи (после дифирамбов, аналогичных приведённым выше). На первый взгляд, Соловьёв стоит горой за “самостоятельную философскую точку зрения на все явления мира”, отмечает, что философия “выдвигает такие умственные задачи и требования, которые в отдельных науках вовсе не имеют места” и т.д. [46]. Радуйся (и за Соловьёва и за философию), да и только. Но на тех же страницах тщательно разъясняется, как реализовать эту “самостоятельную точку зрения” – и сразу становится ясно, чего стоит подобная “защита философии”. А именно (сообщает Соловьёв), если обозначить отдельные науки буквами a, b, c, d и так далее, то философия – это “некоторая функция” всех этих переменных; Соловьёв даже не ленится записать её в “математическом виде”, как j (a, b ,c ,d, e, f ). Видно, что он всё-таки не совсем зря провел время на физико-математическом факультете Московского Университета до своего отчисления; но видно также, что никакого “преодоления” позитивизма здесь нет, а есть, напротив, математически точное выражение самой сущности позитивизма. Конечно, построение “функции j ” (то бишь – “философии”) – это особая “умственная задача”. Но это именно та задача, которую и ставит позитивизм! Никакого самостоятельного (по отношению к науке) значения такая философия иметь не может: её проблемное поле задается совокупностью наук, а “единая наука” задает цель, ради которой эта функция строится, задает значение функции.Теперь, когда мы выяснили сам идеал научного позитивизма, представили его логический каркас (на рис.1), нетрудно понять: точно такой же идеал ставит перед собою и “религиозный позитивизм”, с той лишь разницей, что место “отдельных наук” и “единой науки” здесь занимают, соответственно, “отдельные религии” и “единая религия” – а философия служит той “функцией”, которая превращает первые в последнюю. Никакого преодоления “духа позитивизма” при этом не происходит; напротив, сей дух только расширяет область своего господства, присоединяя к области “научного опыта” область “религиозного опыта”
21 . А в итоге “религиозная философия” В.С. Соловьёва и его эпигонов оказывается просто зеркальным отражением “научной философии” О. Конта, Г. Спенсера и прочих.Действительно, как наука у Конта снабжала философию “положительными” данными о мире “наблюдаемом”, так и здесь религия должна снабжать философию “положительными” сведениями о мире “сверхчувственном”. Но беда с религией – если смотреть на нее глазами позитивиста – по сути та же, что и с наукой; нам известна не одна религия, а множество таковых, каждая со своими “положительными данными”, с крайне разнородным материалом мифического, мистического, догматического характера. А раз так, то задача философии – лишенной, и по Конту, и по Соловьёву, своего содержания, представляющей лишь пустую “форму” или “функцию” – заключается в том, чтобы свести весь этот конгломерат религий (каждая из которых выражает то или иное “частное знание” о Боге, как отдельная наука – о природе) в некое “всеединство”, создать единую универсальную религию, по аналогии с единой универсальной наукой. Отсюда совершенно та же, что у “научного позитивизма”, основная логическая структура “религиозной философии” (рис.2).

Философия и здесь служит методом объединения различных религий в одну универсальную религию. А тогда становится неизбежной связь “религиозной философии” с так называемым “экуменизмом”, причём в его самой радикальной форме. Конечно, нельзя не упомянуть о попытках “русских религиозных философов” сделать основной акцент на христианстве (и даже конкретнее – Православии); такие попытки можно постоянно встретить у Соловьёва, особенно в его выпадах против слишком “дикого” религиозного синкретизма Е.П. Блаватской, и у его эпигонов. Но реальная цена этих попыток та же, что и цена акцентов “научного позитивизма” на той или иной конкретной науке – такие акценты только маскируют “синтетическую” суть “религиозной философии” в глазах доверчивого читателя. Какими бы благими намерениями ни руководствовались при этом отдельные “религиозные философы”, они все равно остаются заложниками роковой логики позитивизма; и потому, заверяя в своей приверженности к христианству (Соловьёв) или Православию (как большинство его эпигонов), они неизменно “расширяют” и Православие, и христианство вообще. Особенно энергично вводятся в христианство элементы иудаизма
: “хохма-софия” у Соловьёва и позднейших “софиологов”; “адам-кадмон” у Л.П. Карсавина; акцент на Пятикнижии Моисея, взятом как нечто “основополагающее” для христианского Откровения (С.Л. Франк, Л.И. Шестов, да и те же “софиологи”). Что касается Православия, то здесь характерна общая практически для всех “религиозных философов” тяга к некой “философской унии” с католичеством; тяга, лишь слегка прикрытая лукавой апелляцией к “кафоличности” 22 . Заметим, кстати, что даже этот католический уклон Соловьёва и его эпигонов поразительным образом созвучен настроениям “нехристя и безбожника” Конта, который “всегда был убежден в необходимости союза католицизма с наукой против анархии и невежества. Он любил повторять: пусть те, кто верит в Бога, становятся католиками, а те, кто не верит в Него – позитивистами” [49]. Эти слова известного французского клерикала Шарля Моррб (1868-1952), называвшего Конта свои “учителем”, бросают яркий свет и на прокатолические настроения Соловьёва, и на тот факт, что современная католическая теология в своём “диалоге” с Православием постоянно ссылается на Соловьёва как на идеального посредника в наведении “межконфессиональных” мостов.Подчеркнём, однако, что пока мы установили только самую общую – и притом логически неизбежную – тенденцию “религиозной философии” в области религии: тенденцию к принципиальному (и даже радикальному) экуменизму, а по сути – к религиозной всеядности. В дальнейшем мы подробно рассмотрим те подспудные течения и водовороты, которые таились под поверхностью “религиозного” позитивизма в России – и тогда нам станет ещё яснее его глубоко антихристианская суть, тогда мы уже в полной мере откроем:
под блеском скорлупы гнилую сердцевину,
под блеском слов их тёмную причину.
Но сейчас нам необходимо понять и то, что означала “русская религиозная философия” – для философии как особой области национальной культуры. Из сказанного ясно, что область эта, с таким трудом открытая в начале XIX века, фактически признавалась внутренне бесплодной. Из русской культуры удалялся её метафизический нерв, она лишалась своего важнейшего органа – органа самосознания. Взамен же предлагался “универсальный синтез” философии, науки и богословия – и порочность этого замысла тоже необходимо ясно понять.
Синтез, в точном смысле этого слова, не соединяет различные измерения человеческого знания, а превращает их в некое “четвертое знание”, со свои специфическим, оккультно-теософским характером. Такова логика синтеза, от которой можно уйти только на словах. Как известно из химии, в результате синтеза различных веществ возникает новое вещество, которое обладает совсем другими свойствами, существенно отличными от свойств исходных веществ. Но ещё показательней пример из духовной области. Если связь культур сохраняет их самобытность, даже позволяет последней (при соблюдении определённых условий) полнее раскрыться во взаимодействии различных культур, то “синтез культур” означает именно возникновение другой культуры, которая стремится вытеснить “старые” культуры, представить их “ненужными” в качестве самостоятельных деятелей. Иными словами, подлинная связь – это всегда взаимодействие начал, сохранивших свою деятельную самобытность; синтез же пытается создать из них и вместо них нового деятеля.
Конечно, настоящая философия, настоящая наука, настоящее богословие не уходят со сцены в результате того “синтеза”, который предлагает позитивизм. Просто рядом с ними появляются их призрачные двойники, лишенные, к тому же, всякой способности к живому творческому взаимодействию. Иначе говоря, продукты подобного “синтеза” всячески препятствуют тому, чтобы в духовной жизни народа осуществилось подлинное триединство богословия, философии и науки.
К вопросу о том, как достигается такое триединство на почве понимания существенных различий в задачах богословия, философии и науки, мы обратимся уже в следующем параграфе. А пока подведем итог наших усилий установить ясное понятие “религиозной философии” – которая успешно выдавала себя за “самобытное выражение русского духа” во многом именно потому, что всячески маскировала это понятие, не выговаривала свою внутреннюю логику. Несомненно, найдутся те, кто изберет самый простой способ защиты “русской религиозной философии” – а именно, указав на наш “формально-логический” подход к её сущности. И мы отчасти принимаем этот упрек. Но о чем он, собственно, говорит? Как уже отмечалось, то содержание “религиозной философии”, которое не влезает ни в какие логические “ворота” (а такого содержания в ней, действительно, более чем достаточно), мы рассмотрим позже. Но имеем ли мы право – стремясь к пониманию русской мысли – вообще проигнорировать логику “религиозной философии”? По верному замечанию Л.М. Лопатина, “не логикой полагается действительность, но каждой действительности присуща своя логика”
[50].Есть своя логика и у “религиозной философии”, притом логика достаточно ясная, если не сказать – примитивная. Для наглядности мы отразили эту логику в схемах, составивших две стороны одной медали, имя которой – позитивизм. Для последнего философия имеет чисто функциональное значение, в ней нет собственного существенного смысла; такой смысл признается позитивизмом только за наукой и религией. Перед нами, таким образом, двуликий Янус позитивизма, “научной” стороне которого точно соответствует сторона “религиозная”. Заметим, что в отечественной мысли этот Янус открывал и свой “научно-философский” лик: в так называемой “философии русского космизма” (В.И. Вернадский, А.А. Чижевский и другие), в достаточно энергичной группе “русских эмпириомонистов” (А.А. Богданов, Д.В. Викторов, П.С. Юшкевич), да и в советском “диалектическом материализме”, чьё паразитическое существование на теле науки вряд ли подлежит сомнению. Но главное вторжение позитивизма в русскую мысль произошло все-таки именно через “религиозную философию”. Этот факт необходимо осмыслить; очень важно понять, с какой “ахиллесовой пятой” в нашем национальном характере он связан. Тем не менее, существует и более важная, неотложная для нашего исследования задача – углубить понятие русской национальной философии. Мы уже установили ранее её чисто философскую доминанту (§ 2), обрисовали её существенно метафизический и персоналистический характер (§ 3); теперь же, в свете всего сказанного, мы должны ответить на вопрос: что такое русский тип христианской философии, в его общем логическом содержании? Ответ на этот вопрос станет последней (и основной) предпосылкой верного взгляда на историю русской философии – и на её трагедию.
Литература
1. Флоровский Г.В. Пути русского богословия – Вильнюс, 1991 г., с. 492.
2. Корольков А. Русская духовная философия – СПб., 1998 г., с. 38.
3. Лопатин Л.М. Положительные задачи философии – т.1, изд. 2-ое, М., 1911г., с. XIX.
4. Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика – т.2, М., 1983 г., с. 103.
6. Вера и жизнь христианская по учению св. Отцов и учителей Церкви – М., 1996 г., с. 1.
7. Православный собеседник, май, 1889 г., с. 136.
8. Зеньковский В.В. История русской философии – т.1, ч.1, Л., 1991 г., с.11.
9. Чанышев А.Н. Начало философии – М., 1982 г., с. 18.
10. Ницше Ф. Полное собрание сочинений – т.1, М., 1912 г., с. 325.
11. Зеньковский В.В. Проблема психической причинности – Киев, 1914г., с.8.
13. Зеньковский В.В. История русской философии – указ. изд., с.12.
14. Несмелов В.И. Наука о человеке – т.1, репринт 3-его изд., Казань, 1994 г., с.317.
15. Франк С.Л. Сочинения – М., 1990 г., с.589.
16. Булгаков С.Н. Свет Невечерний – М., 1994 г., с.69.
18. ВФиП, кн. 136, 1917 г., с.17.
19. Булгаков С.Н., указ. соч., с.81.
20. Ланге Ф.А. История материализма – т.2, СПб., 1883 г., с.75.
21. Новалис. Гейнрих фон Оффтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе – СПб., 1995 г., с.145.
22. Данилевский Н.Я. Россия и Европа – изд. 5-ое, СПб., 1895 г., с. 527.
23. Франк С.Л. Введение в философию – СПб., 1993 г., с.6.
25. Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии – СПб., 1886г., с. 84.
27. Страхов Н.Н. О вечных истинах – СПб., 1887 г., с. 127.
28. Франк С.Л., указ соч., с.14.
29. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов – М., 1990 г., с. 321.
30. Франк С.Л. Сочинения – указ. изд., с. 587.
31. Ильин И.А. Собрание сочинений – т. 3, М., 1994 г., с. 88.
32. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины – т.1(1), М., 1990 г., с. 72.
33. Блонский П.П. Современная философия – М., 1918 г., с. V.
34. Антология мировой философии – т. 3, М., 1971 г., с. 550-551.
35. Киреевский И.В. Избранные статьи – М., 1984 г., с. 211.
37. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии – СПб., 1994 г., с.26.
38. Соловьёв В.С. Собрание сочинений – т.8, СПб., б.г., изд. “Общественная польза”, с. 245.
40. Соловьёв В.С., указ изд., т.1, с. 143.
41. он же, указ. изд., т. 2, с. 332.
42. Антология мировой философии – указ. изд., с. 564.
43. Бакунин П.А. Запоздалый голос сороковых годов – СПб., 1881 г., с. 380.
44. Антология мировой философии – указ. изд., с. 580.
45. Данилевский Н.Я., указ. соч., с. 164 и далее.
46. Философский словарь Владимира Соловьёва – Ростов-на-Дону, 1997 г., с.230-231.
47. ВФиП, кн. 103, 1910 г., с. 380.
48. Аксючиц В. Под сенью креста – М., 1997 г., с. 27.
49. цит по изд.: М. де Унамуно. О трагическим чувстве жизни – М., 1997 г., с.330.
50. ВФиП, кн. 136, 1917 г., с.38.
§ 5. Крест познания. О русском типе христианской философии.
“Учение о Лице воплотившегося Бога-Слова составляет основу, начало и сущность христианства”
[1]. Когда Вениамин Снегирёв, выпускник Казанской Духовной Академии, защитил в 1870 году диссертацию на степень магистра богословия, вокруг этого события не поднялось никакого шума, не сломалось ни одно полемическое копье. Рядовой факт, ничем не примечательный момент в жизни русской духовной школы ... То ли дело, когда спустя несколько лет вступил в ряды магистров философии Владимир Соловьёв, этот типичный “изобретатель нового шума”; сколько было изведено чернил и бумаги, чтобы “осмыслить” то, что являлось, по сути дела, тривиальной вариацией на темы, заданные позитивизмом. Но мир русской философии неслышно вращался вокруг иной оси – именно той, о которой напомнил В. А Снегирёв в самом начале своей диссертации, в словах, приведенных выше. Выступая ещё в качестве богослова, он уже ясно понимал: философия как учение о человеке принадлежит к “сущности христианства” в той же мере, как и учение о Боге, то есть собственно богословие. Это верно, прежде всего потому, что Христос соединил в Себе, “нераздельно и неслиянно”, Бога и человека; следовательно, знание о природе человека необходимо для полноты христианства, религии Богочеловека. Но есть и другой момент, отмеченный Снегирёвым на первых страницах своей работы. Истина Боговоплощения является истиной откровенной, принимаемой человеком как нечто данное; однако “люди всегда стремятся понять всякую данную отвне истину, усвоить её себе по законам своей мыслящей природы”. И такое стремление – стремление к пониманию, – Снегирёв признаёт глубоко законным. Понять, внутренне усвоить “центральную истину христианства” через познание человека – так представлял молодой русский мыслитель задачу христианской философии. По этому пути он и пошёл в своём дальнейшем творчестве, которое во многом отразило решающий подъем русской национальной философии на качественно новый, христианский уровень.Сразу подчеркнём: такой подъем не являлся превращением философии национальной в философию христианскую; он означал развитие национальной философии, важнейший шаг к “сознательному уяснению наших собственных духовных инстинктов”, если вспомнить приведенные ранее слова Н.Н. Страхова
[2]. Русская философия становилась христианской именно потому, что оставалась национальной; а точнее сказать: потому что углубляла свой национальный характер. О каком же глубочайшем духовном инстинкте русского человека идёт речь в данном случае? Достаточно ясно (хотя “ясно” скорее в художественном, чем в философском смысле) он обрисован в известных словах Ф.М. Достоевского из “Дневника писателя”. Приведу их полностью.“Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в своём сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нём существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторяю: можно очень много знать бессознательно”
[3].Нелишне заметить: ко многим суждениям Достоевского надо относиться с большой осторожностью, особенно в тех случаях, когда они исходят от персонажей его романов. Назвать “полифонией” ту сумятицу мнений, которая царит на страницах его художественных произведений, а затем извлекать из этой “полифонии” самые броские афоризмы – не лучший способ понять великого писателя, сохранить его самые глубокие прозрения (к которым никак не относятся перлы типа “красота спасёт мир”
23 ). Иногда же таким образом выдаются за непреложную истину суждения не просто поверхностные, но и прямо ложные, притом исходящие из лживых уст (например, заявление о том, что без Бога “всё позволено” – которое изрекает чёрт в беседе с Иваном Карамазовым 24 ). Но сейчас мы имеем дело с суждением, которое, во-первых, является для Достоевского несомненно своим, а во-вторых, заключает в себе важную догадку о том, что русским людям присуще “сердечное знание Христа”, в каком-то смысле “первичное” по отношению к христианскому вероучению.Конечно, если подходить к словам Достоевского с самой строгой философской меркой, то и здесь нетрудно заметить ряд ошибок, чреватых серьёзными недоразумениями. Например, в духе тогдашней психологической моды (возникшей задолго до Фрейда) Достоевский говорит о неком “бессознательном знании”, явно путая “бессознательное” и безотчётное: простой русский человек, как правило, не размышляет о своём образе Христа, не анализирует его как образ – однако от этого отсутствия “рефлексии” данный образ не становится “бессознательным”
25 .Но есть в словах Достоевского ошибка и более серьёзная. Он приписывает русскому народу ни много ни мало как истинное представление Христа, полученное без всякого вероучения. Это уже явный перебор (впрочем, для Достоевского весьма характерный). Несомненно, что у русского народа есть
свой собственный образ Христа – но является ли этот образ истинным, можно выяснить, только исследовав его согласие с православным вероучением. Кроме того, у русского народа нет той монополии на “сердечное знание Христа”, к мысли о которой явно склоняется Достоевский. Свой образ Христа, как и своё “христианское сердце”, есть у каждого христианского народа; отрицать это можно, только если закрыть глаза на всю духовную литературу, кроме русской 26 .Значит ли это, что слова Достоевского лишены всякого серьёзного значения? Конечно, нет! Суть дела выражена им по существу верно: русский человек (хотя и не он один) знает Христа не только из вероучения, но первично и непосредственно – из своего внутреннего опыта. Он носит образ Христа “в сердце своём искони” – и это утверждение Достоевского, правильно понятое и философски осмысленное, соответствует тому принципу, который В.А. Снегирёв и другие русские мыслители положили краеугольным камнем христианской философии
.Совершенно естественно, что они сделали это преемственно к доминанте русской национальной философии, или принципу самосознания (см. выше, § 2). Из такой преемственности и вырос русский тип христианской философии. В данном параграфе мы, конечно, не ставим целью раскрыть этот тип во всей его полноте. Наша задача состоит здесь лишь в том, чтобы читатель уловил самое существенное, обрёл способность отличать – по немногим основным признакам – подлинную христианскую философию от её двойника, или “религиозной философии” (о сути которой достаточно говорилось выше). Заранее оговорю и то, что сейчас мы многое упростим, дадим самое элементарное представление о русском типе христианской философии. Уже позже мы затронем более глубокий пласт творчества В.А. Снегирёва, его ученика В.И. Несмелова и других мыслителей, которые наиболее последовательно и ясно выразили ключевую идею христианской философии. Но сейчас, повторяю, нам важно уловить только самую суть этой идеи.
Вспомним вопрос Достоевского (не забывая, однако, отмеченные в нём неточности): “Как возможно истинное представление Христа без учения о вере?”. Снегирёв отвечает совершенно ясно: “как составная часть процесса самосознания”
[5]. Вот та ключевая идея, о котором мы только что говорили. Помимо вероучения, или, точнее, Откровения, сознание Бога обретается человеком только в неразрывной связи с его личным самосознанием 27 . Но, в отличие от Достоевского, Снегирёв не отсекает “вероучение” от свидетельств самосознания, не считает положительное Откровение чем-то “вторичным”. Суть в другом – в том, что зерно Откровения прорастает только на почве самосознания. Снегирёв пишет об этом вполне недвусмысленно: Откровение “предполагает в человеке предрасположение и способность к усвоению его содержания”, предполагает “особого рода духовные деятельности, которые как бы идут навстречу откровенной истине” [6]. Подчеркнем, чтобы уже далее не возвращаться к этому моменту: для Снегирёва религиозная истина принадлежит именно Откровению, а человек в акте самосознания идёт навстречу этой истине 28 .Но сказанное сейчас ещё не объясняет, почему возникает это встречное движение, что именно делает человека существом религиозным, в настоящем смысле этого слова. Мы уже видели, как бились над понятием “религиозности” так называемые “религиозные философы”, и что из этого получалось. Классик русской философии сразу отсеивает побочное, второстепенное и выделяет главное: “В основе религии лежит идея всемогущей личной силы, или всемогущей Личности”
[7]. Здесь уместно, пожалуй, лишь одно принципиальное уточнение: В.А. Снегирёв выражается правильнее, когда говорит, на тех же страницах, не о “всемогущей”, но о всесовершенной Личности [8]. Но суть дела вполне понятна: для человека предметом подлинного религиозного чувства является только Личность в её высшем, всесовершенном воплощении, а “религия с безличным богом – не есть религия в собственном смысле слова, а только подобие или суррогат её”. И только такое понимание религии способно объяснить, почему человек открыт Откровению, предрасположен к нему именно как человек. “Дело в том, что эта идея (всесовершенной Личности – Н.И.) необходимо и безусловно связана с самосознанием человека, с идеей его собственной личности”, “с признанием им себя конечною и ограниченною личностью” [9]. Заметим, что здесь нет знака равенства между всесовершенной Личностью и личностью человека, но есть связь между ними, их соответствие или сообразность (если воспользоваться выражением П.А. Бакунина). И хотя личность человека конечна и ограничена, но без неё идея всесовершенной Личности осталась бы человеку вполне чужой. Снегирёв пишет об этом так: “смутна, неопределённа идея собственной личности, – смутна и идея Личности бесконечной; ясно, определённо и отчетливо сознается человеком особность собственной его личности и её свойства – ясно, определённо возникает представление особности и главных свойств Личности бесконечной”. И добавляет: “Всякое несчастие, страдание, повышая самочувствие и самосознание, повышает и религиозное чувство” [10]. Но это замечание мы вспомним, когда коснёмся второго тезиса Достоевского – о Христе как “единственной любви” русского человека, притом любви “до страдания”.А пока подведём предварительный итог. Учение о связи между самосознанием человека и его богосознанием, о том, что идея всесовершенной Личности “возникает в человеке необходимо и присуща ему всегда – явно или скрытно – по самой природе его духа, по самому строю его внутренней жизни и деятельности” – учение это было намечено В.А. Снегирёвым ещё в самых общих чертах, ещё требовало более полного раскрытия и углубления. Но краеугольный камень христианской философии был положен. Облеклась в форму ясных суждений (из которых мы привели лишь самые необходимые) интуиция И.В. Киреевского о причастности “внутреннего самосознания к Богопознанию”
[11] и догадки других русских мыслителей, отраженные, например, в словах П.Е. Астафьева: “Душа, знающая о себе, в этом непосредственном, внутреннем знании является, повторяя известное изречение Тертуллиана, от рождения, по природе религиозно-настроенной, как по природе же она и метафизична” [12].Теперь мы можем ясно сказать, что же в первую очередь отделяет русский тип христианской философии – от “религиозной философии”; отделяет и тогда, когда Снегирёв, Астафьев, Козлов и другие тоже говорят не прямо о христианстве, а о “религии”, “религиозном чувстве”, “религиозном настроении” и т.д. Первичное размежевание задается и здесь принципом самосознания, в корне чуждом “религиозной философии” в духе В.С. Соловьёва и его эпигонов, а ещё вернее сказать – недоступном их пониманию, попадающим в “слепое пятно” их воззрений. ещё раз подтвердим сказанное достаточно ярким примером. Вот перед нами книга В.В. Зеньковского с многообещающим названием “Основы христианской философии” (первое издание: Франкфурт-на-Майне, 1961 г.). её автор рассуждает о той “светоносной силе”, которая, исходя от Христа, сообщает человеку способность “истинного познания”. Но что это за познание? Процитируем соответствующий фрагмент полностью. Зеньковский утверждает: сила христианского познания “дает начало двум различным перспективам – одна обращена к Богу (Богосознание, или
лучше Богознание, “знание о Боге”, по терминологии А.А. Козлова), а другая обращена к миру (мирознание). Два этих движения духа неотделимы одно от другого и в самом начале – и в самом конце своего развития. Обращенность души к Богу реализуется на “фоне” миросознания, миросознание реализуется в связи с обращением души к Богу. Нам не дано постигать Бога иначе, как лишь в Его отношении к миру... Но и мирознание, которое дается одновременно с Богознанием, неотрывно и неотделимо от Богознания” [13].Итак, самостоятельной “перспективы”, связанной с самосознанием, в христианской философии, по Зеньковскому, просто нет; он даже не утруждает себя объяснением этого вопиющего пробела, даже не выговаривает слово “самосознание”, твердя на протяжении всей книги лишь о “Богосознании” и “миросознании”
29 . Получается, что “светоносная сила”, идущая от Христа, обращает человека и к Богу, и к миру, но не обращает его к самому себе, не проясняет его внутренний мир – словно никогда и не были сказаны слова Спасителя о Царстве Божием, которое “внутрь вас есть”.В связи с такими взглядами абсолютно неуместна ссылка на одного из классиков русской философии А.А. Козлова. Ведь в его статье “Сознание Бога и знание о Боге” (1895 г.) доказывается необходимость “соотносить сознание Бога с сознанием нашего индивидуального бытия”
[14] – то есть именно то, о чём несколько раньше писал Снегирёв и о чём нет “ни полслова” у о. Василия! Более того, Алексей Козлов пишет совершенно недвусмысленно: “Образовать понять о реальных свойствах и действиях Бога мы всего лучше можем при посредстве нашего сознания о нашей индивидуальной субстанции и наших свободных действиях, данных сознанию каждого индивидуума”. И здесь путь к богопознанию неразрывно связан с самопознанием, ведёт в глубину человеческого самосознания. От этого пути в “христианской философии” Зеньковского не остается и следа.Мы лишний раз убеждаемся в том, как прочно сидит в “религиозных философах” основной предрассудок позитивизма, даже если они пытаются превратиться в “христианских философов”. Для философии в собственном смысле слова среди названных Зеньковским “перспектив” нет места; он видит лишь перспективу теологии (богосознание) и перспективу науки (миросознание). Впрочем, иначе и не могло быть; ведь уже сам термин “перспектива” (аналогичный термину “горизонт” в позитивистской “феноменологии” Гуссерля) указывает на то, что Зеньковский не понимает сущность самосознания. На три четверти века раньше (в 1886 г.) Павел Бакунин писал: “Взирая на себя самого, всякий находится в сфере самосознания и видит своё бытие из его центра ... поэтому его взгляд на себя есть прямой, непосредственный взгляд, при котором им усматриваемое ... не подлежит никакому извращению перспективности: то самое и именно так, как оно есть, а не иначе, он безобманно и видит”
[15]. Вот суть дела: самосознание человека есть непосредственное самоотношение, то есть взгляд на своё бытие (или самобытие) из центра этого бытия; поэтому “в сфере самосознания ... нет и не может быть условий перспективности” [16].Замечания П.А. Бакунина подсказывают нам и символ целостного познания: символ креста, вертикальную ось которого составляет богопознание, горизонтальную миропознание, а центр, скрепляющий эти оси и свободный от “условий перспективности” – именно самопознание. И этот “крест познания”, возложенный на каждого человека, указывает на существенно христианский характер, который принимала русская философия, уясняя свой ключевой принцип.
Но, конечно, мы не можем довольствоваться таким символическим указанием, не вникнув сначала в самую суть христианской философии; суть, от которой производны все символы. И прежде всего надо понять следующее. Связь самосознания человека с его богосознанием определяется связью между живой личностью человека и живой Личностью Бога – такова исходная интуиция христианской философии. Но почему только христианской? Ведь принято считать, что “религию личного Бога” мы находим не только в христианстве; такова же, по крайней мере, внешне, и религия мусульман, и религия иудеев. С другой стороны, православное богословие учит, строго говоря, не о “личном Боге”, но о Боге, едином в трёх Лицах, о Боге-Троице. Вот те очевидные сомнения, предварительный ответ на которые необходимо дать уже сейчас.
По существу дела, подобного рода сомнения связаны с упорным нежеланием понять, что христианская философия стоит “под знаком человека”, стремится установить именно истину о человеке, во всей её полноте, глубине и ясности. Питать такие же притязания относительно истины о Боге философия, понимающая свою задачу, не будет, иначе она снова станет подменять богословие, со всеми вытекающими из этой подмены последствиями. Мы вынуждены ещё раз напомнить об этом читателю; теперь рассмотрим высказанные выше сомнения.
Да, в религиях семитских народов их божество предстает, в общем и целом, как личность, притом “всемогущая”, хотя и далеко и не всесовершенная, по крайней мере, в том, что касается её нравственных качеств; но суть даже не в этом. Суть в том, что человек здесь вовсе не понимается как личность. “Сказал я в сердце своём о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные ... и нет у человека преимущества перед скотом” (Эккл., 3:18-19). Это взгляд не только “премудрого царя Соломона”; это взгляд иудея на самого себя, это его ущербное “самосознание”. И даже там, где человек прямо не отождествляется с животным и “скотом”, всё его достоинство полагается не в личности, а в роде. Даже автор псалмов, который обращается к Богу, казалось бы, именно как личность – на деле говорит от лица рода; ищет у Бога милости и благословения роду (Пс., 111:2), полагает род, и только род, хранителем истины о Боге (Пс., 99:5; 118:90), памяти о нём (101:13, 134:13) и т.д. Человек же здесь не свободно-разумная личность (“единственно существенное в мире”, по словам И.В. Киреевского), даже не индивидуум (в настоящем смысле этого слова, то есть “неделимый центр бытия”, по Л.М. Лопатину), но лишь экземпляр рода. С подобной “религией личного Бога” религиозная интуиция русских мыслителей, интуиция связи между самосознанием личности и её богосознанием, не имеет ничего общего.
Напротив, христианству, и только христианству, эта интуиция не просто созвучна; её можно встретить на каждом шагу в святоотеческом наследии, если только умышленно не зажмуривать глаза и не затыкать уши. “Научись своему достоинству” – призывает человека св. Григорий Нисский
[17]; “Покажи мне своего человека, и я покажу тебе своего Бога” – говорит св. Феофил Антиохийский [18], совершенно в духе классиков русской философии и даже радикальнее, чем они. Но как же быть с откровением о Боге-Троице? Ответ ясен. Во-первых, это откровение никоим образом не противоречит той истине, которая обретается человеком на пути самопознания; Откровение просто оказывается глубже и полнее этой истины, соединяет в себе постижимое для человека с непостижимым для него. Видя в Боге всесовершенную Личность, мы не заблуждаемся; но при этом наше зрение (или, правильнее сказать, умозрение) не охватывает Бога, не вмещает в себя то, что и нельзя вместить. Однако дело даже не в этом “нельзя” 30 . Задача христианской философии – не богопознание как таковое, но постижение истины о человеке, постижение “человеческого в человеке” (если воспользоваться здесь выражением Достоевского), и в свете этого постижения – ясное понимание того, в чём заключается загадка о человеке. Та загадка, решение которой – решение не умозрительное, но действительное – лежит уже за пределами философии.Так мы подошли к самому важному моменту, который составил подлинное открытие классиков русской философии; открытие, сформулированное ими глубоко и ясно, тогда как “русской религиозной философии” был даже не понятен общий смысл этого открытия. Этот “общий смысл” необходимо установить (а точнее, восстановить из забвения) уже сейчас, в вводной части данного исследования, чтобы действительно понимать все дальнейшее.
Классики русской философии неоднократно подчеркивали то, что Н.Н. Страхов выразил в словах: “Человек – вот величайшая загадка, узел мироздания”
[19]. И прямо вслед за этими словами Страхов замечал о своей книге “Мир как целое”, основную часть которой составило именно философское учение о человеке: “Она не заключает в себе решение дела, но её можно назвать ... точною постановкою вопроса”. Прочитав такие слова, естественно решить, что Страхов признает здесь лишь недостаточность, незавершенность своего исследования, данной конкретной работы. Возможно, что и он сам имел в виду нечто подобное. Но фактически в словах выдающегося русского мыслителя проявилось (пусть ещё не вполне отчетливо) понимание того, что философское исследование человека, даже во всей полноте такого исследования, приводит не к окончательному и полному ответу, но именно к точно поставленному вопросу, к “величайшей загадке” о человеке в её настоящем виде. К загадке, действительное разрешение которой дает только христианство.В полной мере прояснила эту логику “Наука о человеке” В.И. Несмелова. Христианская философия, будучи философией, начинает с самосознания человека, со свидетельств самосознания, а не с тех или иных свидетельств Откровения. Здесь, на материале самосознания, совершается основная работа философа; здесь устанавливается основной характер человеческого существования и постигается сущность человека. Эта работа исключительно плодотворна, если её совершает настоящий философ; в ходе её человек получает ответы на всегда волновавшие его вопросы, такие, как вопрос о духовно-материальной “двойственности” человека или вопрос о свободе человеческой воли. Тем не менее, наиглавнейшим итогом этой работы является не ответ, а вопрос, причем вопрос, имеющий характер загадки для собственно философского исследования, знаменующий предел такого исследования. Я не буду сейчас формулировать эту загадку в точных философских терминах – для этого необходимо раскрыть (вместе с автором “Науки о человеке”) тот конфликт личности и вещи, который составляет основное содержание человеческой жизни. В данный момент достаточно сказать следующее: на высшем уровне самосознания человек обретает ясное понимание того, что значит жить истинной жизнью – и в то же время убеждается в том, что истинная жизнь для него невозможна. А поскольку “жить по истине” значит для человека жить “по образу и подобию Божию”, то Несмелов и задает вопрос, по своей напряженности не уступающий самым трагическим вопросам Достоевского: “Не затем же, конечно, существует человек, чтобы опозорить в мире образ Бога?”
[20]. Вот загадка о человеке, и в этой загадке заключается, очевидно, и трагедия человека, в её высшем, глубочайшем содержании 31 .Сразу уточним немаловажный момент: трагичность своего существования человек способен осознать и
вне христианства; собственно, такое осознание мы и находим ещё в языческом мире, прежде всего, в философии индоевропейских народов, где, по верному выражению Ницше, происходит “рождение трагедии”. Вот почему Несмелов говорит: “По содержанию загадки (о человеке – Н.И.) христианское вероучение не сообщает ничего такого, что бы не было известно человеку в непосредственных данных самосознания” [22]. Благую весть христианства составляет не напоминание человеку о трагичности его существования – но “богочеловеческое дело Христа” [23], то дело, которое и явилось решением “загадки о человеке”, развязкой трагедии человека 32 . Христианство говорит именно об этом “исключительном деле”, поскольку “оно говорит о вочеловечении Сына Божьего ради спасения людей, и о крестной смерти Богочеловека за людские грехи, и о воскресении Его от мёртвых в начаток и удостоверение вечной жизни людей” [24].Вот эту-то речь христианства, его Благую весть – философия уже не может “придумать” сама, только на основе самосознания человека; здесь необходимо именно вероучение, основанное на Откровении Бога, а не на самосознании человека. Философия, повторим ещё раз, приходит к христианскому учению о Богочеловеке как единственному
решению своей собственной предельной проблемы, “загадки о человеке”. Философия “проверяет” христианство одним единственным способом: убеждаясь, что оно действительно решает ту загадку, которую философия не способна самостоятельно решить, хотя и способна самостоятельно сформулировать. И в связи с этим решением философия принимает (не может не принять!) и то непостижимое, что есть в Откровении (например, догмат Троичности); именно так открывается “логически правильный путь к мышлению истины непостижимого”, “апостольский путь знающей веры” [25].Теперь мы можем достаточно ясно сформулировать идею христианской философии, как её выразили русские мыслители (среди которых Виктор Несмелов фактически завершил труд, начатый до него, построил свою концепцию на фундаменте русской национальной философии в целом). Философия становится христианской тогда, когда открывает в Богочеловеке Иисусе Христе решение загадки о человеке. Она приходит к Христу, исходя из глубочайших проблем человеческого существования, решая всё, что можно решить, и находя свой предел в ясно осознанной и точно выраженной загадке, или трагедии человека. Только так, не теряя своего философского достоинства, она обретает достоинство христианское. Этот путь, который на деле прошла русская национальная философия, можно представить схемой на рис. 1.
самосознание человека |
>> |
загадка о человеке |
>> |
ответ христианства |
Рис.1. Путь христианской философии.
До сих пор мы вели разговор о христианской философии, отвлекаясь от культурно-исторического контекста русской духовной жизни XIX века. И делали это сознательно: такой контекст, при отсутствии ясного философского подхода, чаще всего затуманивает существо дела, дает пищу для порой остроумных, но почти всегда неточных (или просто неверных) обобщений. Теперь, когда мы прояснили, хотя бы в самым общих чертах, идею христианской философии, как её понимали русские мыслители, самое время поставить вопрос: как было связано становление христианской философии в России XIX века с духовной ситуацией того времени?
В своей “Авторской исповеди” (1852 г.), относительно свободной от “учительского” тона, который так повредил “Выбранным местам”, Н.В. Гоголь делает весьма важное признание: “Я пришёл ко Христу, увидевши, что в нём ключ к душе человека”
[26]. Слова эти можно прочесть, в свете всего сказанного выше, как образное выражение идеи христианской философии; но, к сожалению, такое прочтение будет через чур поспешным. В словах Гоголя выразилась, конечно, потребность в христианской философии, но от понимания её идеи он был ещё очень далек. Великий русский писатель явно хотел сказать, что в христианстве заключено какое-то особое, если угодно, эзотерическое учение о человеке, учение, которое можно найти там, как некий клад – и знакомство с этим кладом освободит человека от самопознания, в настоящем значении этого слова. Мы уже говорили о тщетности такой надежды. Ни Новый Завет, ни святоотеческое предание не могут заменить философского учения о человеке. Это признавал впоследствии такой знаток предания (и особенно его “антропологического” пласта), как архимандрит Киприан (Керн), когда отмечал: “в области антропологии святоотеческая мысль не дала ясного синтеза и мало-мальски удовлетворительного аппарата формулировок и понятий” [27]. Эти слова, несмотря на заключенное в них преувеличение (ценные элементы учения о человеке в святоотеческом наследии, несомненно, присутствуют, поскольку это наследие проникнуто и философским духом) и на сомнительный (по причинам, указанным ранее) термин “синтез”, содержат, тем не менее, немалую долю истины, пусть для кого-то и горькой: православное вероучение не может всецело удовлетворить потребность человека в самопознании. И в связи с этим самое время вспомнить культурно-исторический феномен, связанный с концом XVIII – началом XIX века – а именно, тот факт, что в данный период значительная (если не подавляющая) часть русских образованных (а в числе образованных – и мыслящих) людей приходила или в стан “вольтерьянцев”, или в стан “масонов”. Я, конечно, мог бы сказать не “приходила в стан”, а “попадала в сети”. Но сейчас нам важна не “конспирология” названных идейных движений (или брожений). Темные силы, цель которых: развращение русской души, разрушение русского духа – всегда были, есть и, по-видимому, ещё долго будут. Но для успеха своих затей этим “силам” необходимо содействие русского человека, вольное или невольное, сознательное или безотчетное. Что же побуждало русского человека в указанную эпоху к такому содействию, не обещавшему ему ничего хорошего ?Я не буду сейчас спорить с известными взглядами, согласно которым “корень зла” лежит в реформах Петра Великого или даже в деятельности его отца Алексея Михайловича. Замечу только, что подобные взгляды обычно избавляют от необходимости внимательно всматриваться в изучаемое культурно-историческое явление, чтобы найти предпосылки его понимания – в нём самом. Ведь любой серьёзный внутренний кризис происходит из-за отсутствия в организме нации какого-то важного элемента духовной жизни – элемента, без которого можно было до поры до времени обходиться, но который рано или поздно становится необходим. В эпоху, о которой идёт речь (конец XVIII – начало ХIХ века) таким ещё отсутствовавшим, но уже необходимым элементом была именно философия. Вольтерьянство для одних, а масонство для других и стали её эрзацем. Вопреки распространенному сегодня взгляду, русский человек отыскивал здесь не то, что противоречило православному вероучению, а то, чего в нём не доставало – отыскивал именно “науку самопознания”, то учение, которое вряд ли был способен преподать катехизис.
В случае русского масонства это особенно очевидно. Затрагивая данную тему, Г.В. Флоровский даже утверждал: “В масонстве русская душа возвращается к себе из петербургского инобытия”
[28]. Сказано броско, но весьма неточно. В масонстве “русская душа” лишь пыталась обрести себя, но, конечно, не обрела по-настоящему. И не в “петербургском инобытии” она себя потеряла; на деле душа русского человека стремительно созрела, причем именно за петербургский период, до потребности в ясном и глубоком самосознании – потребности, которая прежде если и не дремала, то удовлетворялась без особых проблем тем “антропологическим минимумом”, который содержит православное вероучение. Но не могло удовлетворить эту потребность и масонство, несмотря на обилие общих слов о “внутреннем человеке”, общих призывов к “внутреннему собиранию души” – не могло, потому что и масонство не было философией. Философский метод самопознания подменялся здесь неким “посвящением”, открывавшим путь к “тайному знанию”, хранимому от глубокой древности. Современный исследователь (а точнее, апологет) масонской “философии” выражается на сей счет совершенно ясно: “Это знание сохранялось небольшой группой посвященных умов, начиная с момента сотворения мира. Уходя, эти просвещенные философы оставляли свои формулы (!) другим, чтобы те могли достичь понимания. Но даже если эти секреты попадали в руки невежд, Великая Тайна оставалась скрытой в символах и аллегориях. И тот, кто сможет сегодня найти утерянные ключи к ней, откроет сокровищницу философских, научных и религиозных истин” [29].Но в том то и дело, что душа русского человека (насколько она оставалась русской) искала в масонстве вовсе не глобальной “Великой Тайны”, не ключа (а точнее,
отмычки) ко всем истинам подряд, а именно знания о человеке, знания, способного “пролить свет на природу личности”, на отношение человека к “самому себе и своему ближнему”, как выражал известный Н.И. Новиков (1744-1818) своё понимание основной цели масонства [30]. Устремление русской души к философии, притом именно к христианской философии, сказалась и в тех симпатиях, которые проявляли даже известные иерархи Православной Церкви к идее “внутреннего христианства”, несмотря на явное желание масонства использовать эту идею (вовсе не масонского происхождения) в своих интересах. Для русского человека “внутреннее христианство” означало не эзотерическое христианство, где догматы Православия перетолковываются в духе пресловутой “Великой Тайны” – а просто христианское состояние человеческой души; потому и митрополит Филарет (Дроздов) учил об “образовании внутреннего человека”, не смущаясь известными подозрениями в масонстве [31]. Другое дело, что в масонской литературе “внутреннее христианство” охотно интерпретировалось как некая “универсальная”, или “сверхконфессиональная” религия – а это было уже опаснейшим соблазном. Но и здесь устояли многие, а главное – устояли лучшие. Примером может служить В.А. Жуковский (тяготение которого к идеям “внутреннего христианства” хорошо известно); приведем отрывок из его письма к П.А. Вяземскому (по поводу стихотворения “Святая Русь”): “Смешно сказать: Английский, Французский, Немецкий Бог; но при слове русский Бог – душа благоговеет: это Бог нашей народной жизни, в котором, так сказать, для нас олицетворяется вера в Бога души нашей, это образ Небесного Спасителя, видимо отразившийся в земной судьбе нашего народа” [32]. В приведенном суждении (которое уже заключает в себе позднейшие темы Достоевского и Тютчева) есть многое, с чем можно не соглашаться – но “универсальной религией” здесь, как говорится, и не пахнет.Рискну утверждать вполне категорически: масонство, несмотря на все свои внешние успехи, достигнутые в России начала XIX века, оказалось тогда бессильно в завоевании ума и сердца русского человека. И прежде всего потому, что русской душе был чужд поиск “эзотерической изнанки” христианства (поиск, который неизбежно приводит к искажению Православия); русский человек соблазнился в масонстве не религиозной стороной дела, а только обещанием “истинного самопознания”, то есть обещанием философии. И когда к середине XIX века русская мысль встала на путь настоящей философии, когда стал всё яснее определяться её христианский смысл – масонство ушло глубоко в тень, заявляя о себе во вторую половину столетия лишь через “теософию” В.С. Соловьёва. Но уже одно то, что последнему пришлось демонстративно отрицать всю русскую философию, и означало фактическое поражение масонства
33 .Как ни парадоксально, сказанное сейчас о “русском масонстве” относится, по существу, и к “русскому вольтерьянству”. И здесь русская душа искала философии, причем такой, в которой на первом месте стояли бы живые
проблемы человеческого существования; а Вольтер достаточно успешно (и по-своему искренне) имитировал нечто похожее на такую философию, демонстративно испытывая абстрактные философские схемы (типа “предустановленной гармонии” и “лучшего из миров” Лейбница) реальностью человеческой жизни. Могут заметить, что уж к христианской философии Вольтер был способен подвигнуть менее, чем кто-либо другой. Но говоря так, забывают о тех “струнах и силах” русской души, которые пробуждались европейскими влияниями. Снова приведу пример струны самой отзывчивой – поэтической. П.А. Вяземский может быть приписан к “русским вольтерьянцам” не только по родословной, которую он сам гордо подчёркивал (“Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи”), но и по тем настроениям, которые он так часто выражал в своей поэзии. Сильнее всего, быть может, в этих стихах:Свой катехизис сплошь прилежно изуча, Вы Бога знаете по книгам и преданьям, А я узнал Его по собственным страданьям И, где отца искал, там встретил палача.
Последняя строка почти дословно воспроизводит известный афоризм Вольтера. Но так ли это существенно? Отвращение ко всякому ханжеству, фарисейству, лицемерию (и не только религиозному; о “либеральном холопстве” он сказал раньше Тютчева) соединялось у Петра Вяземского с чувством глубокой трагичности жизни (“Вы говорите: жизнь есть благо,- // Что ж после назовете злом?”) – и понять эту трагичность, обходя молчанием вопрос об ответственности Творца за своё творение поэт не считает возможным. Но, в отличие от Вольтера, который, поставив аналогичный вопрос, сам же ловко “уходил” от него в успокоительную фикцию “деизма” – русский человек не мог удовлетвориться этой фикцией; он ставил серьёзный вопрос и ждал на него серьёзного ответа.
А точнее, не только ждал. По сути дела, русский человек знает, что ответ есть, он предугадывает основной смысл, суть этого ответа – как тот же Вяземский, когда признаёт:
И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей – Как воину хоругвь дается в ратном поле – Безумно и грешно, чтобы вольней идти, Снимая с слабых плеч, бросал я по пути.
Поразительные строки! Как глубоко здесь осознано, что подлинная жизнь должна, не может не быть крестоносной, в настоящем смысле этого слова. Но чтобы почувствовать значение Креста – необходимо уже не “религиозное чувство вообще”, а именно христианское чувство. Чувство, изначально присущее русскому человеку. Он может стать вольнодумцем, “агностиком”, даже “теоретическим атеистом”; в его смятенной душе может зазвучать и ропот на Бога, и прямо богоборческие мотивы. Но он не может, оставаясь русским, стать врагом Христа, стать “нехристем” в глубине души. Он может, подобно Аполлону Григорьеву
34 , допускать в себе способность идти против Бога (“Ему б я гордо пел проклятья”); но если Бог является ему в облике Христа – он неизменно склоняется перед Ним:И выше всех Голгофа. И на ей
Распятый Бог, страдалец за людей.
Возроптать на абстрактного “монотеистического” Бога мог даже Ф.И. Тютчев, и возроптать нешуточно, на пороге смерти (“Всё отнял у меня казнящий Бог”); но думаю, не надо напоминать читателю те хрестоматийные строки, где Христос не оставляет без своего мистического присутствия, без своего благословения ни один уголок русской земли (невольно хочется сказать – “забытый Богом” уголок). Христос никого не “казнит” и никого не забывает. Здесь мы подходим к той опасной грани, где христианское чувство русского человека заставляет вспомнить древнего Маркиона, у которого Христос противостоит ветхозаветному Иегове, этому поистине “казнящему Богу”. Впоследствии мы увидим: для христианского сознания, если оно не уклоняется от самых трудных, трагических вопросов, приближение к этой грани неизбежно; здесь происходит решающее испытание христианского духа в человеке.
Но сейчас попытаемся глубже всмотреться в то собственно христианское, что заключает в себе религиозное чувство русского человека. Вспомним приведенные выше слова Ф.М. Достоевского в той их части, которой мы ещё не касались: “Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и любит он образ Его по-своему, то есть до страдания”. Осторожное “может быть” не является здесь чем-то лишним, поскольку глубокое наблюдение писателя нуждается в уточнении: русский человек любит, конечно, не одного Христа, но самой светлой, сильной и верной любовью он любит ради Христа, как подчеркивал П.Е. Астафьев в своём замечательном исследовании о природе любви
[33]. Что значит это глубоко русское “ради Христа”? Христос не заменяет для нас любимого человека (и не только отдельного человека; Астафьев говорит также о любви к семье, своему народу, Отечеству), но Он пробуждает в нас – своим образом, своим примером и, конечно, благодатно даруемым через Него Св. Духом – всю силу заключенной в нас самих человеческой любви, всё лучшее в нашей душе. Ведь и для страдания (точнее, для вольного страдания “ради Христа”) нужная настоящая, великая сила; убегают от любви и страдания именно по своей слабости. И напротив, “любим мы не от нашей нищеты и скудости, но от полноты и богатства нашей собственной внутренней жизни” [34] – пишет Астафьев, словно полемизируя с известным учением Платона, согласно которому в основе человеческой любви лежит бедность, нужда (У меня в душе есть сила, У меня есть в сердце кровь, Под крестом – моя могила, На кресте – моя любовь.
Человек, не способный любить Христа – не только страдает “неверием” в обычном смысле слова; в нём засорен источник его собственной душевной силы, в нём остыла его человеческая кровь.
Так мы подошли к исключительно важному моменту. В самой основе русской приверженности Христу лежит не умиление тем, что Он проявлял какие-то человеческие слабости (“вот человек, который любит есть и пить вино” [Мф. 11:19]), даже не сострадание к его человеческим страданиям (этот последний мотив очень характерен для католиков, хотя, конечно, естественен для любого христианина), но чувство радости – радости от того, что Христос явил человека в его высшем достоинстве. Только тот, в ком образ человека сопряжен с образом Христа, чья душа как бы стоит “перед образом Спасителя” (вспомним одно из лучших стихотворений А. Кольцова), может вполне искренне, не кривя душою, сказать, что “прекрасней человека // Ничего нет на земли”
. И снова подчеркнём – по сути своей это глубоко православная радость. Ведь именно Христом и во Христе человек был “восстановлен в древнее благородство”, по словам св. Фотия (ок. 820-891), патриарха константинопольского 36 . Бог, ставший человеком, открыл нам то, что мы утратили – но что всё-таки принадлежит нам “по праву первородства”. Вот та основная интуиция, которая выражается в христианском чувстве русского человека 37 .Попутно заметим, что рассуждения так называемого “либерального богословия” о том, что Христос был, мол, только “совершенным человеком” – бьют мимо русской души, для которой это “только” значит очень много. На Западе усиление акцента на человечности Христа, говоря в общем и целом, действительно ослабляло веру в Него, ибо Запад вообще склонен презирать “человеческое, слишком человеческое” (и, быть может, именно поэтому так дорожит личиной гуманизма). Но в России, в русском народе изначальное переживание человечности Христа (не только нравственной, но и бытийственной) скорее питало веру в Него живыми соками, делала эту веру особенно задушевной
38 . Напротив, любая форма докетизма (для которого Христос лишь “казался человеком”, не имея человеческой сущности, или природы) заключает для русской души глубокое разочарование, вызывает то религиозное охлаждение души, которое нередко скрывается за подчеркнутым признанием божественности Христа, но в конечном счёте ведёт к роковой расхристанности. А такой налет докетизма встречается порою и у православных богословов, озабоченных полемикой с чрезмерным “гуманизмом” в представлении о Богочеловеке. Ещё хуже обстояло дело в “религиозной философии”, где эта полемика получила принципиальное значение, а гуманизм стал бранным словом; здесь всё человеческое приписывается “Софии” как некой “посреднице” между “божественным Логосом” и “тварным миром”. Такова известная схема В.С. Соловьёва (к тому же заимствованная из западных “теософских” источников), о котором В.В. Розанов метко сказал: “Сына человеческого... в нём даже и не начиналось” [36].Вот второй (конечно, не по значимости, а по логике нашего анализа) признак, который радикально отличает “религиозную философию” от философии подлинно христианской. Игнорируя или даже прямо отвергая принцип самосознания, “религиозная философия” лишена и настоящей христологии, в ней нет Христа как Богочеловека. Не заметить это просто невозможно; Г.В. Флоровский пишет (в связи с учением В.С. Соловьёва) так: “Странным образом, о Богочеловечестве Соловьёв говорит много больше, чем о Богочеловеке – и образ Спасителя остается в его системе только бледной тенью”
[37]. Впрочем, ничего странного здесь нет: химерическое “богочеловечество” было для того и придумано, чтобы избавиться от Богочеловека. Действительно странно другое: как тот же Флоровский, почти сразу за приведенной характеристикой, вдруг произносит хвалу Соловьёву за “его стремление от христианского слова к христианскому делу”. Хорошо, однако, “христианское дело” без Христа. И откуда эта неспособность авторов типа Георгия Флоровского “расставить все точки над i” там, где православный богослов просто обязан это сделать? Вот ведь и о полупомешанном Н.Ф. Фёдорове, авторе бредового проекта “научного воскрешения отцов”, Флоровский пишет вполне определённо: “у Фёдорова нет никакой христологии вовсе” [38]. Но зачем тогда уделять этому нонсенсу в квадрате (воскрешение без Христа) добрых десять страниц своей книги, не написав ни слова ни о Петре Астафьеве, ни о Вениамине Снегирёве? Конечно, софистика Соловьёва и бредни Фёдорова – это наш грех (и философский, и богословский), который надо ясно осознать; но наше сознание будет глубоко несчастным, если в нём не найдется места для тех, кто создавал национальную философию и возводил её на высший, христианский уровень.Выше я назвал христианское чувство русского человека по сути своей радостным; иначе и быть не может, потому что Христос воистину возвращает человеку его “потерянный рай”. Но это уже не первоначальный рай невинной души – но рай души спасенной и осознавшей, сколь велика цена спасения. Гениально выразил такое сознание Е.А. Баратынский в последних строках своей поэтической молитвы:
И на строгий Твой рай Силы сердцу подай.
Для христианской радости тоже нужна великая сила, потому что христианская душа знает: достоинство человека неотделимо от его креста. В восприятии русского человека сам Христос и Его Крест составляют нечто нераздельное; вспомним ещё раз стихотворение Тютчева, где Спаситель – уже как Царь небесный – обходит русскую землю (по логике – после Своего Воскресения) по-прежнему “удрученный ношей крестной”. Быть может (и в определённом смысле даже наверняка), здесь христианское чувство погрешает против богословской точности – но потому именно и погрешает, что пытается выразить возможно полнее человеческое в Богочеловеке, выразить то, что ускользает от чисто богословского взгляда.
Философия, однако, уже не имеет права на такие погрешности, простительные поэзии. И одновременно она не должна уклоняться от тех острейших вопросов, которые возникают из самой глубины человеческого существования. Она должна искать “точнейшей формулировки” этих вопросов, как богословие ищет такой формулировки для истин Откровения. Но для этого она должна вслушиваться в голос самосознания; в противном случае, полагаясь только на истины Откровения, философия так и не поймет значение этих истин для человека, не поймёт, что христианство действительно отвечает на все те вопросы его “тревожного сердца”, которые не находят окончательного ответа в самой философии, в чистой “науке самопознания”. Трагичен вопрос без ответа; но ещё более трагичен ответ без вопроса, ответ, не понятый именно в качестве ответа, оставшийся внешним наставлением. Очень характерна в этом отношении небольшая книжка св. Иоанна Кронштадтского (1829-1908) под названием “Христианская философия”. С одной стороны, название этой книги (составленной из дневниковых записей святителя) адекватно своей теме – теме человека. Собственно богословских вопросов, догматического учения о Боге здесь по существу нет; и это показывает, что автор понимал общий смысл христианской философии так же, как и русские метафизики XIX века. Но вчитываясь в эти серьёзные, местами исключительно глубокие размышления, постепенно убеждаешься, что здесь предлагается как бы решение задачи без намека на её условия, ответ без самого вопроса. Когда св. Иоанн пишет о том, что “человек, сотворенный по образу и подобию Божию, с бессмертной, свободной и разумной душой”, отпал от Бога “по невниманию, самолюбию и неблагодарности”, причем отпал не спонтанно, не по своей доброй воле, но по наущению “дьявола, который отклонил мысли и сердца людей от Единого Виновника бытия и всех благ”
[39] – он говорит вещи, которые В.А. Снегирёв или В.И. Несмелов, несомненно, признавали. Но тот же Несмелов говорит и о том, о чём никогда бы не решился сказать святитель Иоанн: “кто действительно ищет религиозной веры в Бога, для того, разумеется, важно знать вовсе не о том, как именно человек очутился под владычеством зла, а главным образом и даже исключительно о том, как именно Бог мог потерять человека, особенно, если эта потеря совершилась по воле Его совечного врага и, значит, вопреки собственной воле всемогущего Бога” [40]. Подчеркнём: здесь вопрос о Боге поставлен человеком, и поставлен именно из глубины самого трагического переживания человека, переживания богооставленности: “как Бог мог потерять человека?”. Ставить подобный вопрос на почве догматов, на почве Откровения – бессмысленно по существу дела, ибо Откровение есть прямое самосвидетельство Бога, предназначенное человеку. Но значит ли это, что данный вопрос вообще не имеет смысла? Даже если мы вынесем такой приговор, вопрос от этого не исчезнет; мы только потеряем в христианстве то, что отвечает именно на этот сугубо “недогматический” вопрос. Да и что дает нам право “снять” подобный вопрос? Многие скажут: то, что человеку лишь кажется, что Бог его потерял, что “богооставленность – это иллюзия падшего человека”. Но кто удовлетворяется таким объяснением, тот не только глух к запросам души человеческой; тот ещё и не владеет философским взглядом на вещи, не понимает точку зрения самосознания. Л.М. Лопатин писал: “непосредственно сознаваемые свойства состояний сознания суть их подлинные свойства ... слово “кажется” здесь даже не имеет смысла” [41]. Другими словами, переживание богооставленности является несомненной внутренней реальностью; и того, кто прочувствовал боль этой реальности, не удовлетворит догматически верное положение, что Богом мы всегда “живём и движемся и существуем” (Деян., 17:28). В конечном итоге, право задать вопрос, столь резко сформулированный Несмеловым, дает не кто иной, как Христос, своим предсмертным вопрошанием, исходившим из глубины его человеческого естества: “Боже Мой! Боже Мой! Для чего ты Меня оставил” (Мф., 27:46). Человек только повторяет это вопрошание Богочеловека – но основанием является здесь не евангельский текст, а трагический опыт человеческой жизни. Не снимает такое вопрошание и полное воцерковление человека, если, конечно, не думать, что воцерковление – это избавление от креста ...Другое дело, что нельзя доводить трагические вопросы человеческого существования до “экзистенциальной” истерики, до психопатических выкриков в стиле Кьеркегора и Шестова, короче, до еврейского “гвалта” вместо христианской философии. Последняя обязана говорить спокойно и ясно – и такова, несомненно, основная тональность русского типа христианской философии. Тональность надежды, которую ещё раньше выразил Е. А. Баратынский (1800-1844):
И оправдается Незримый
Пред нашим сердцем и умом.
Мы видим, что христианская философия, как её понимали русские мыслители (и предугадывали русские поэты) может ставить самые острые вопросы не только относительно человека, но и относительно Бога – однако лишь в том случае, когда эти вопросы вытекают из самосознания человека, выражают связь человеческого самосознания с человеческим же богосознанием. Поэтому во всех этих вопросах христианский философ выговаривает правду о человеке; и такая правдивость философа не менее важна, чем правоверие богослова
39 .Сказанное сейчас приложимо (конечно, mutatis mutandis) и к той связи, которая существует между самосознанием человека и его миросознанием. Философия не закрывает глаза на мир, как не закрывает их на Бога – но и на мир она смотрит существенно
sub speciae hominis. В этом смысле она познаёт не “мир вообще”, но мир человека, и здесь её глубокое отличие от науки. Для последней основополагающее значение имеет то, что можно назвать “откровением природы”; напротив, для философии основу составляет то, как человек переживает своё бытие-в-мире. И можно сразу назвать ту кардинальную проблему, которая возникает именно из философской точки зрения на мир: проблему множественности миров соотносительно множественности человеческих я. Для науки этой проблемы просто нет, она изучает мир существенно единый и единственный; её “возможные миры” – это или ещё не изученные части единого мира, или чисто гипотетические построения. Для философии дело обстоит принципиально иначе; на почве индивидуального миросознания действительны именно различные миры, и ещё требует доказательства то положение, что они лишь “образы” единого мира. Поэтому куда ближе, чем научный постулат единого мира, стоит к философии интуиция, выраженная, в частности, талантливейшим русским поэтом К.К. Случевским (1837-1904):Разных два мира в нас вдруг повстречались ...
Камнем бы бросить ... Кому и в кого?
Только тот, кто не переживал трагедию человеческого общения (в сущности более острую, чем трагедия одиночества), увидит здесь лишь поэтический домысел, а не догадку о проблеме, которая требует философского решения
40 .Теперь автор может надеяться на то, что читатель не воспримет слова о кресте познания как сказанные всуе. Этот крест действительно нелёгок: с труднейшей задачей самопознания здесь соединяются и те задачи бого- и миропознания, которые нельзя отделить от человека. Решая эти задачи, философ, конечно, вступает в диалог и с богословом, и с ученым – с теми, кто познаёт Бога и мир на основаниях, существенно отличных от человеческого самосознания. Но если в этом диалоге философ забудет своё основание, отбросит его, как нечто “излишнее” при наличии откровения Бога и “откровения природы” – это разрушит весь крест познания, и его не восстановит никакой “синтез” распавшихся элементов. Напротив, философия, верная принципу самосознания, никогда не изолирует себя от богословия и науки (ибо самосознание нельзя изолировать от богосознания и миросознания), но и не сольется с ними ценой потери своего самобытного лица.
Не устану повторять: в этой главе сделана лишь попытка наметить самые общие черты русского типа христианской философии – и сделана потому, что во всяческих “историях русской философии” этот тип просто игнорируется, вытесняется почти без остатка глубоко отличной от него “религиозной философией”. А не подозревая о том, что такой тип существовал, очень трудно понять весь ход истории русской мысли; представим, для сравнения, что среди народов России были “забыты” великороссы – какой бы виделась нам в этом случае “русская история”? Конечно, у вдумчивого читателя сказанное выше вызовет целый ряд вопросов, число которых, надеюсь, будет убывать по мере дальнейшего чтения. Поэтому в заключение данного параграфа коснусь только двух возможных сомнений.
Одно из них может возникнуть в связи с центральным положением человека, его самосознания (или философии) на кресте познания. Сегодня без конца повторяется тезис о том, что христианская философия является “теоцентричной, а не антропоцентричной”. Не ссылаюсь на конкретные работы – этот тезис повторяет каждый кому не лень. А точнее, каждый, кому именно лень серьёзно подумать. На деле так называемый “теоцентризм” – это вовсе не христианство, но радикальное язычество. За концепцией теоцентризма стоит древний образ круга, в центре которого находится божество, а всё остальное составляет как бы окружность или, вернее, ряд концентрических окружностей различного радиуса. Этот образ мы находим, например, у пифагорейцев; его подчеркнуто религиозный смысл – “самое почетное место должно принадлежать тому, что наиболее достойно почитания”
[42] – является сугубо языческим и прямо связан с представлением о “совершенном замкнутом космосе”, в центре которого пребывает “священный огонь”. Конечно, этим символом увлекались и многие мистики (а точнее, теософы) христианской эпохи – но по сути это не христианский символ 41 . Совершенно ясным свидетельством является, в данном случае, “сакральная геометрия” христианского храма. Если языческие храмы тяготели именно к “циркулярной” форме и, что ещё важнее, в их центре всегда помещался алтарь, то христианский храм воплощает совсем иное представление о движении человека к Богу. Посреди храма стоит амвон – отсюда звучит исповедание человеческой веры в Бога; но алтарь, или Святая Святых (где “обитает Бог в неприступной Славе своей” [43]), занимает место именно в конце храма, противоположном входу. “Теоцентризм” при этом исключается самим направлением храма с запада на восток [44]. Для христианина есть единственно верный вектор жизни, тогда как движение к центру безразлично к вектору; в центр можно попасть, даже двигаясь в противоположных направлениях.Сделав это первое замечание, автор сознаёт, что невольно подменил настоящую философскую аргументацию рассуждениями modo geometrico. И хотя в данном случае это произошло вынужденно, в силу “геометричности” самой концепции теоцентризма, здесь таится опасность, которую необходимо отметить уже сейчас – опасность символизма как подмены настоящего, несимволического знания. По точному замечанию В.И. Несмелова, человек “непосредственно сознаёт все явления самобытия и символически выражает различные факты инобытия”
[45]; вот почему символизм менее всего уместен в философии, которая начинает именно с самобытия, данного в непосредственном самосознании, а не с инобытия, данного сугубо внешним для человека образом. А символизм не на своём месте – это уже по сути не символизм, а схематизм (Но тогда возникает естественный вопрос: как же быть с “крестом познания”? Не предлагаем ли мы здесь очередную схему, которая подменяет настоящее понимание? Ответ на это сомнение ясен: чтобы не свести крест познания к символу или, хуже того, схеме – его надо не представлять, а переживать; другими словами, его надо реально нести, осуществляя труд самопознания. Но где критерий того, что такой труд действительно совершается, что, подняв крест, человек не стоит на месте? Критерий есть: действительное самопознание означает переход с одного уровня самосознания на другой, более высокий; ведь самосознание не является чем-то фиксированным, оно может и должно обретать и новое содержание, и новую форму
42 . А вместе с самосознанием возвышается, становится глубже, определённее, и богосознание, и миросознание человека; это тоже признак того, что он действительно несёт крест познания. И не надо думать, что мы говорим о пути каких-то исключительных натур. Таков путь каждого человека; только одни останавливаются где-то у подножия, а другие несут свой крест до самой вершины своей Голгофы, до развязки своей человеческой трагедии.Возможно, что сказанное сейчас прозвучало излишне высокопарно. В этом, однако, вина автора, но не тех мыслителей, благодаря которым русская философия обрела подлинно христианский характер. Напротив, их творчество отмечено той особенной трезвостью, которая вообще составляет примету всего собственно русского в русской культуре. Действительно, у русских мыслителей конца XIX века мы находим глубоко своеобразное решение
проблемы отношения философии к богословию, то есть той проблемы, которая возникала в различных формах на протяжении всей истории христианского мира. Русское решение этой проблемы является примером исключительной трезвости взгляда на действительные возможности философии. Здесь нет крайностей, типичных для западной мысли, где философия то “решает” все проблемы, то, наоборот, только их “ставит” 43 . Напротив, русская философия обрела христианский характер через разумно-свободное самоопределение, уясняя, какие проблемы человеческого бытия она может решить самостоятельно, на почве человеческого самосознания, а какие – только точно сформулировать, правильно поставить, чтобы искать ответ уже не в слове человеческом, но в Слове Божьем. Последнее не вытесняло первое, человеческий разум в глазах русских мыслителей не становился чем-то излишним и даже опасным (а в лучшем случае – чем-то “вспомогательным”, как в средневековой концепции “философия – служанка теологии”). Как отмечал Л.М. Лопатин, “сам разум останавливается там, где кончается область очевидного и познаваемого”, находит свои действительные границы [48] – и, по крайней мере, именно так поступил разум русских философов.Заметим, что эту глубоко русскую разумность лишь по невниманию к ней можно спутать с “золотой серединой” древних греков или, скажем, китайцев. Дело – не в “середине”, не в предвзятом мнении, что верен лишь “средний путь”. Русский мыслитель не проводит тех или иных “золотых сечений” в области познания, не ищет “совершенной гармонии”, точного “равновесия”, не требует “единства противоположностей
” – короче, не задается заранее принятой схемой. Что же он делает? Он познает вещи путем “внимательного всматривания в их природу” (Н.Н. Страхов о Н.Я. Данилевском), он направляет “внимание от себя к другому и от другого к себе” (П.А. Бакунин), короче, он “всматривается в жизнь” (И.А. Ильин), и прежде всего – в жизнь души человеческой. Именно это позволило русским мыслителям понять настоящую степень человеческого достоинства, не превращая человека ни в “становящийся Абсолют”, ни в “экзистирующее ничто” – а те, кого увлекали эти фантазии западной мысли (В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев и другие), не только подражали чужим (и дурным) примерам, но откровенно изменяли русской духовности. Неудивительно, что они утрачивали и присущую русскому духу силу подлинно философского внимания.Наш общий (и повторю ещё раз – сугубо предварительный) обзор основного содержания русской философии закончен. Если он не был напрасным, если мы проявили необходимую степень внимания к самым общим чертам русской национальной философии и её “религиозно-философского” двойника, мы можем теперь определить те принципы историко-философского понимания, без которых дальнейшее исследование пришлось бы вести вслепую, лишь путем перескока от одних имен и идей к другим. Попытаемся в заключение данной главы сформулировать эти принципы по возможности точно и ясно.
Литература
2. Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе – книга первая, СПб., 1887 г., с. V.
3. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах – т.12, СПб., 1994, с.44-45.
4. The High Way. An anthology compiled by E. Vipont – London, 1957, p.31.
5. Снегирёв В.А. Психология. Систематический курс лекций – Харьков, 1893 г., с.600.
11. Киреевский И.В. Полное собрание сочинений – т.1, М., 1911 г., с.279.
12. Астафьев П.Е. Вера и знание в единстве мировоззрения – М., 1893 г., с.90.
13. Зеньковский В.В. Основы христианской философии – М., 1992 г., с.51.
15. Бакунин П.А. Основы веры и знания – СПб., 1886 г., с.166-167.
17. Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы – М., 1996 г., с.155.
19. Н.Н. Мир как целое – второе изд., СПб., 1892 г., с.XI.
20. Несмелов В.И. Наука о человеке – т.1, Казань, 1898 г., с.465.
21. Зассе Г. На том стоим. Кто такие лютеране – СПб., 1994 г., с.47.
22. Несмелов В.И. Наука о человеке – т.1, Казань, 1994 г. (репринт третьего изд.), с.402.
26. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями – М., 1990 г., с.287.
27. Архимандрит Киприан (Керн) – указ. соч., с.106.
28. Флоровский Г.В. Пути русского богословия – Вильнюс, 1991 г., с.115.
30. Масонство в его прошлом и настоящем – т.1, М., 1991 г., с.182.
31. Флоровский Г.В. – указ. соч., с.184.
32. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12 томах – т. 10, СПб., 1902г., с.123.
33. Астафьев П.Е. Чувство как нравственное начало – М., 1886 г., с.82 и далее.
35. Scheler M. Moralia – Leipzig, 1923, S.154.
36. Розанов В.В. Литературные изгнанники – СПб., 1913 г., с.142.
37. Флоровский Г.В. – указ. соч., с.317.
39. Св. Иоанн Кронштадтский. Христианская философия – СПб., 1902 г., с.13.
40. Несмелов В.И. Наука о человеке – т.2, указ. изд. (репринт), с.195.
41. Лопатин Л.М. Положительные задачи философии – ч.2, М., 1891 г., с.156-157.
42. Антология мировой философии – т.1, М., 1969 г., с.285.
44. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси – М., 1993 г., с.16-17.
45. Несмелов В.И. Наука о человеке – т.1, указ. изд. (репринт), с.135.
46. Богословские труды – т.27, М., 1986 г., с.68.
47. Hartmann N. Systematische Philosophie in eigener Darstellung – Berlin, 1935, S.5.
48. Лопатин Л.М. Положительные задачи философии – ч.1, второе изд., М., 1911 г., с.XXVII.
49. там же, ч.2, М., 1891 г., с.41.
(продолжение следует)