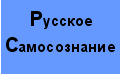Александр Черноглазов
УЗНАТЬ В СЕБЕ ХРИСТИАНИНА...
«Воспоминание о поездке на Афон» – не просто запись путевых впечатлений, как это может показаться на первый взгляд. Настоящая тема Н.Н. Страхова – это духовные поиски русского человека, ощутившего, что окружают его ненужные, чужие, чуждые ему формы жизни. И стремится он не столько удовлетворить ту «похоть очей», в которой поначалу полушутливо-полустеснительно сознаётся, сколько избавиться от неё, избыть ее зрелищем окончательного идеала, который помог бы ему вернуться к себе, найти те формы и образы, которые были бы для него естественны, органичны. И характерно, что для него, как и для множества других русских людей самых разных сословий, убеждений и умственных привычек, путь этот, – путь к духовной отчизне, путь блудного сына – лежит через монастырь, через прикосновение к жизни на первый взгляд ему чуждой, иной, «иноческой».
«Монадзо», «живу один» – сколь бы общежительным монастырь ни был, сколь бы ни напоминал он неискушенному взгляду казарму или коммуну, суть его, как свидетельствует само имя, остается прежней. Монастырь – это жизнь в одиночестве. Но одиночество – удел всякого христианина. Откроем Евангелие: «когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне...», и далее: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне» (Мф 6. 6,17-18) Итак, у христианина, подобно Янусу, символизировавшему сопряжение порядка земного и порядка небесного, два лица: одним из них обращён он к Отцу, другим – к миру. Для мира он весел, светел и радостен, для Бога же пребывает в покаянии, посте и молитвенном плаче. Заповеданная ему любовь к ближнему словно мечом рассекает его надвое, не позволяя разделить с ним своё страдание, сделать его свидетелем своего подвига. Лишь ценою «двуличия», ценою непрестанного внутреннего уединения – ибо «непрестанной», по слову апостола, должна быть его молитва – дано ему избежать греха, от которого предостерегает его Евангелие, дано не стать лицемером перед лицом Божиим. Радуясь, он радуется для людей, постится же и оплакивает грехи свои – для себя самого. Истинное желание его, желание пребывать о Богом, желание молитвы, должно оставаться для других сокровенным. Оно незримо для них, подобно невидимой с Земли стороне Луны. Но, не видя этого желания в других, легко утратить его и в себе самом. Легко уверовать, что деятельная любовь к ближнему, служение ему, является самоцелью, смыслом христианской жизни, что аскеза и молитвенный подвиг противоестественны и бесчеловечны, Именно так, видимо, и мыслят те писавшие об Афоне западные авторы, с которыми вступает в спор Страхов. Что поражает его в Афонских монастырях в первую очередь? Да то самое, о чём только что прочли мы в Евангелии: удивительное сочетание света, радости, красоты (несчетное число раз повторяет автор, рассказывая о монахах Афонских, эти слова) их обращенного к миру лика с изумляющим его своею суровостью молитвенным, аскетическим подвигом. «Остальное их время и другие дела совершенно незначительны в сравнении с этим делом». Здесь, в монастыре, вторая, сокровенная сторона жизни христианина становится явной, публичной. У монаха и нет, в собственном смысле этого слова, «внутренней» жизни, ибо она в нём обнаружена, явлена. Общественное служение монаха, в силу обета послушания, им принятого, совпадает с заповеданным каждому христианину тайным, непрестанно совершаемым молитвословием. Все то, что форма, устав, обряд вменяют ему в обязанность, совпадает с истинным, сокровенным его желанием. И в этом смысле монах – это лишь явленный христианин, обнаруживающий – не по своей воле, но по особому, монашескому, послушанию – тайну христианской жизни, а монастырь – училище молитвы, единственная в своём роде духовная школа, зерцало христианского самопознания. Христианин же, втайне несущий крест своего одиночества, является ничем иным, как тайным монахом, иноком, ибо лишь там, в молитвенном одиночестве внутренней клети, протекает иная, желанная его жизнь.
На первый взгляд, сюжет очерков цикличен – перед нами лишь отпуск, недолгая поездка, откуда автор возвращается назад в столь родной и чужой ему Петербург, возвращается к своей работе в библиотеке, своей холостяцкой квартире, к привычному общественному служению в образе философа, ученого и литератора. Но это лишь видимость. В содержании заметок, больше того, в самой интонации и языке их, явственно свидетельствуется пройденный автором необратимый духовный путь: от стыдливого признания – к исповедальной откровенности, от тона робкого и самоироничного – к твердому, почти проповедническому пафосу, от чужого – к вновь обретенному своему, самобытному, от «похоти очей» – «к жажде молитвы». Внешне жизнь автора навряд ли изменилась заметно, но произошло в ней иное, главное: христианин узнал в себе христианина и явственно, смело исповедал его. Совершился, внутренний, тайный монашеский постриг, зажегся тот внутренний огонь молитвы и благоговения перед священнодействиями, который и является для нас по сей день залогом нашей свободы, залогом жизни, сообразующейся во всех культурных, государственных, общественных своих формах не с духом века сего, а с обитающим в нас благодатью православного крещения Духом Святым, «Духом истины. Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его», Духом молитвы, единственным для каждого из нас её свидетелем и ходатаем.