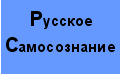Николай Калягин
ЧТЕНИЯ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1
Чтение 5
Время, в которое
Дмитриев оставил литературу, время Аустерлица и
Тильзита, 1805-1807 годы. И около этого времени, не без
помощи Дмитриева, русская поэзия окончательно
мужает и твёрдо становится на ноги.
Начинает Жуковский – и блестяще
начинает. Уже существуют первые гусарские песни
Дениса Давыдова. Начинается Батюшков. В расцвете
сил и таланта находится Мерзляков, почтеннейший
профессор (впоследствии и декан) Московского
университета, автор чеканных, тяжелостопных
строф «Оды на разрушение Вавилона» и нежнейших,
интимно знакомых русскому сердцу песен «Среди
долины ровныя...» и «Ах, что ж ты, голубчик, невесел
сидишь...»:
Встречаюсь ли с знакомыми –
Поклон да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими –
Поклон да пара слов.
Одних я сам пугаюся,
Другой бежит меня.
Все други, все приятели
До черного лишь дня!...
Друг Мерзлякова и друг Жуковского,
двадцатидвухлетний Андрей Тургенев умирает в
самом начале XIX столетия, успев, однако, написать
превосходное стихотворение «К отечеству» и одну
из лучших русских элегий «Угрюмой осени
мертвящая рука...».
Гнедич упорно трудится над переводом
«Илиады», появляются первые басни А. Измайлова.
Приобретает литературную известность
князь Иван Михайлович Долгоруков, поэт-дилетант,
родной внук Натальи Борисовны Шереметьевой.
Жизненный подвиг этой замечательной
женщины, воспетый в романтической поэме Козлова,
увековеченный в несравненных «Своеручных
записках...», как-то замысловато контрастирует с
основным тоном поэзии её внука – напористым,
несколько даже расхлябанным:
Парфён ! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, с скуки изнываешь.
Ты беден – следственно, терпи.
Блаженство даром достаётся
Таким, как ты, на небеси;
А здесь с поклону всё даётся.
Ты беден - следственно, проси.
Иной шага не переступит,
С софы не тронется своей,
А сходно всё достанет, купит.
Ты беден – бегай и потей.
Не правда ли, вам послышались в этих
стихах некоторый цинизм, ожесточённость? –
ничего подобного. Послушайте, что будет дальше:
О бедность! горько жить с тобою!
Нельзя и чувствам воли дать.
Я, рассуждая сам с собою,
Не мог вовек того понять,
Как могут люди быть такие,
У коих множество всего,
И в том же свете есть другие,
У коих вовсе ничего? –
и тени нет цинизма, а только
обескураживающее простодушие – чисто русская
черта характера и, вместе с тем, отличительная
особенность природного таланта, не озабоченного
тем, как он выглядит со стороны. В стихах князя
Долгорукого нет подтекста, в них до дна
выбалтывается (за сто лет до Розанова)
взбалмошный, доверчивый и мягкосердечный
русский обыватель.
Надо сказать, что Долгоруков, потомок
древнего и знатного рода, имевшего почти
тысячелетнюю историю, о бедности писал не
понаслышке. Имения Долгоруких были конфискованы
при Анне; огромное состояние полтавского
победителя фельдмаршала Б.П. Шереметьева
досталось брату Натальи Борисовны, который не
уделил и полушки родившемуся в ссылке племяннику
Михаилу (и это, в какой-то степени, способствовало
неслыханному расцвету садово-паркового
хозяйства в Кусково, Останкино и Архангельском,
дало возможность троюродному брату нашего поэта,
не считаясь с приличиями, вступить в брак с
талантливой крепостной актрисой). Не особенно
удалась князю Ивану Михайловичу и карьера
чиновника.
Впрочем, он сам описал свою жизнь, свои
злоключения в большом стихотворении «Я»,
довольно необычном по той откровенности, с
которой автор выболтал о себе всё – много даже и
совсем лишнего, ненужного.
Послушайте несколько отрывков из
этого стихотворения, посвящённых годам учения
молодого князя:
Да что-то я на всё тупенек смладу был:
Иное не далось, иное позабыл.
...
Что денег Бог пошлёт, в
минуту сосчитаю,
А математики совсем, мой друг, не знаю.
...
Учился фехтовать за
дорогую цену,
И вечно попадал не в цель, а прямо в
стену.
Бивал все в барабан бои до одного,
А ныне, хоть убей, не помню ничего.
В манеже три зимы меня ль не
муштровали,
К езде на лошадях всемерно приучали;
Но всуе затевать, чего нет на роду:
Не только что с коня – с клячонки
упаду.
Бог весть, какой
величины поэт получился бы из князя Долгорукова,
если бы он ответственнее относился к своему
таланту. Быть может, и не очень крупной. А так,
валяющий экспромтом страницу за страницей, он
очень оригинален и мил.
Что-то старомосковское, фамусовское –
то есть, фамусовские добродушие и любезная
откровенность без расчётливости Фамусова, без
его житейской хватки...
Семён Сергеевич Бобров.
Тоже не совсем обычный поэт. Уроженец Ярославля,
прибывший в Москву за знаниями и здесь
почувствовавший, что не боги, так сказать, горшки
обжигают, что в груди Семёна Боброва тоже горит
огонь, погасить который не властно ни время, «ни
дождь разъедающий, ни жестокий Борей...».
Талантливость Боброва очевидна,
сознание избранничества развилось в нём с
необычайной силой; закончилось всё это
пьянством, чахоткой и безвременной смертью.
Полусумасшедший поэт, но с проблесками
гениальности.
Какая густота подъемлется седая
К горящим небесам с простывших сих
полей!
Смотри! почти везде простерлась мгла
густая,
И атмосфера вся очреватела ей!
С востока ночь бежит к нам с красными
очами... – так пишет Бобров (в стихотворении
«Прогулка в сумерки»), и уж точно здесь ощущается
«соседство инобытия», вот только какого? –
Мистическая струя, пробивающаяся в творчестве
Боброва, мутновата, источник её сомнителен.
Бобров – сын священника, и в своём стремительном
взлёте он от этого сословия оттолкнулся, влетел в
Московский университет, в кружок Новикова, в
масонский журнал «Покоящийся трудолюбец», в
«дней Александровых прекрасное начало» – и
сгорел в их атмосфере, которая, вот уж
действительно, «чреватела» густой мистической
мглой.
Подобно В. Петрову, Бобров – поэт,
который может ещё дождаться своего часа, найти
своего читателя. А при жизни он не знал
читательского признания, и это, наверное,
справедливо: эстетические притязания Боброва
резко своеобразны, имеют мало общего с обычными
человеческими представлениями о прекрасном.
Боброва интересно изучать, легко восхищаться его
стихами – для чтения они не годятся. Находясь в
первоклассном поэтическом времени, Бобров
нетерпеливо отмахивается от всех утешений,
предлагаемых им, и устремляется в будущее – и в
будущее, надо сказать, довольно скверное
(футуризм, «научная» поэзия). Новатор и
экспериментатор по призванию, что хорошего мог
он создать, гребя всю жизнь против течения,
способного дать (и давшего в следующем поколении)
Пушкина, Баратынского, Тютчева?...
Знакомясь с жизнью Семёна Боброва,
трудно отделаться от впечатления, что перед
тобой именно загубленная жизнь. Бобров
посвятил её борьбе с ломоносовской системой
стихосложения, – и именно в те годы, когда
система, наконец, заработала, начала на деле
раскрывать свой громадный потенциал.
Проще было бы тронувшуюся с места
снежную лавину повернуть вспять.
... ... ...
Тимофей Милетский,
первый декадент в мировой литературе, ровно за
четыреста лет до Рождества Христова написал:
Старого я не пою: новое моё – лучше!
Царь наш – юный Зевс, а Кроново царство
миновало:
Прочь, старая Муза! –
и этими словами, кажется, навечно очертил и
исчерпал круг возможностей авангардизма как
художественного метода.
Легче лёгкого прогнать прочь старую
Музу – единственная трудность заключается в том,
что у юной Музы авангардиста «лучше» не
получается. Получается всегда хуже.
Пушкин – тот не был новатором. Пушкин
ни от чего «старого» не отрекался, никаких
открытий не сделал, он всё получил готовым. У
Пушкина было превосходное жизненное правило: «На
свете дураков нет. У всякого свой ум, мне не
скучно ни с кем, начиная от будочника и до царя». И
он не скучал, подбирая крупицы золота,
рассыпанные здесь и там у старых поэтов (и у
Семёна Боброва в том числе) и переливая их в
совершенно новую, единственную на свете форму –
«Жизнь и сочинения Александра Сергеевича
Пушкина». А Семён Бобров, отмахнувшись от опыта
предшественников именно потому, что они были
«дураки» (не читали Мильтона, Юнга и А. М.
Кутузова) и «подлецы» (воспевали царей и цариц,
состояли на государственной службе), оставил
после себя лишь несколько тысяч стихотворных
строк, вычурных и надутых, среди них же и самый
снисходительный читатель не сыщет словечка,
сказанного в простоте...
Остаётся сказать несколько слов о
знакомстве Боброва с Радищевым. Разумеется,
такое знакомство не могло сойти безнаказанно для
более слабой (то есть более разносторонней, менее
фанатичной) натуры Семёна Сергеевича.
Многолетняя его борьба против рифмованных
стихов, против силлабо-тонической системы
стихосложения обычно и объясняется влиянием
Радищева, для которого рифма и метр были лишь
малой частью отвратительного старого
миропорядка, подлежащего полному искоренению.
Радищев, в свою очередь, высоко ценил творчество
Боброва и, собираясь однажды в Крым, предполагал
взять с собою «плащ для тумана, а Боброва в
услаждение».
Первый русский революционер,
собиравшийся усладиться стихами первого
русского авангардиста... Запомним на будущее эту
многозначительную картину.
Не приходится сомневаться в том, что из
Боброва сделали бы литературную знаменитость,
родись он на сто лет позже; для своего времени,
более уравновешенного, более нормального, он
стал посмешищем.
Вяземский откликнулся на смерть
Боброва эпиграммой:
Нет спора, что Бибрис богов языком
пел,
Из смертных бо никто его не разумел.
Очень характерно то, что молодые
карамзинисты, будущие арзамасцы, ценившие в
жизни всё высокое, культивировавшие
наивно-возвышенные представления о значении
поэтического искусства для судеб мира, высоты и
святости обыденной жизни совсем не чувствовали и
не понимали. Наполеоном ли стать на Аркольском
мосту, броситься в пруд Бедною Лизой, но
выделиться, «выйти из толпы» (по известному
выражению Пушкина), прозвучать, так сказать,
полнозвучным аккордом, –без этого и жить не
стоит.
И вот эти молодые люди непрерывно
играют – с жизнью и со смертью, – то так, то этак
заставляют повернуться пресловутую
индейку-судьбу: вдруг да прозвучит вожделенный
аккорд и восхищённый мир заплещет... Все они
страшно деятельны, энергичны, шумят и хохочут,
вечно куда-то спешат, скачут – и это, определённо,
одержимость, хотя пока что и в лёгкой форме. Пока
их просто «несёт» – они как бы катятся с пологой
ледяной горки, и даровое движение веселит их,
будоражит кровь («Вези куда-нибудь» – последнее
слово известнейшего деятеля этой формации,
завсегдатая тайных обществ и литературных
кружков, великолепного Репетилова).
Заигравшийся Вяземский пишет на
смерть Боброва две эпиграммы и один шуточный
некролог. Любой идиот понимает, что перед лицом
смерти (во всяком случае – чужой) шутить
нехорошо, непристойно – умный Вяземский этого
уже не понимает.
А ведь Бобров не был даже литературным
противником Вяземского и его весёлых друзей.
Просто общее внимание было на несколько дней
привлечено к личности усопшего (что и
естественно), давняя репутация поэта-неудачника,
спьяну воображавшего себя гением, делала из этой
личности лёгкую мишень для сатирика – вот
Вяземский и расстрелял мимоходом эту мишень,
просто практики ради.
Другое дело – князь С.А.
Ширинский-Шихматов. То был кровный враг, член
первого разряда «Беседы любителей русского
слова», и с ним перестали церемониться задолго до
смерти.
Шихматов начал печататься в 23 года, а
уже в 26 лет стал членом Российской Академии –
быстрый успех. Знаменитый адмирал Шишков (о нём,
как и о созданной им «Беседе...», весь разговор
впереди) «открыл» молодого поэта и стал на долгие
годы почитателем и покровителем его таланта.
Покровительство, в данном случае, было у места.
Сын отставного поручика (почти как князь Мышкин у
Достоевского), князь Ширинский-Шихматов был
небогат, болезненно застенчив, не имел связей в
литературном и придворном мире. Шишков ввёл его в
общество (А. Измайлов посвятил этому событию
отдельную басню, довольно злобную, под названием
«Шут в парике»), выхлопотал и пенсию от
Императорского Двора в полторы тысячи рублей.
Природная нерасположенность
карамзинистов к Шихматову была этим
покровительством усилена до крайности.
Александр Семёнович Шишков, угрюмый славенофил,
являлся ещё с 1803 года главным врагом
карамзинистов, но заслуги перед родной страной,
соответствующий заслугам чин, личное
благородство – всё это затрудняло применение
против него обычных приёмов литературной борьбы.
Наглая фамильярность и зубоскальство,
замалчиванье и апелляция к городовому были здесь
одинаково неудобны, не подходили, так сказать, к
лицу... Безвестного, нечиновного Шихматова,
прослужившего четверть века простым
воспитателем в Морском кадетском корпусе,
нетрудно было залягать – и тем самым огорчить,
потревожить неуязвимого Шишкова.
Шихматов, болезненно переносивший
нападки карамзинистов, довольно рано оставил
литературу и, имея вообще склонение к духовной
жизни, принял монашество. Умер он в Афинах (где
был настоятелем посольской церкви), в один год с
Пушкиным и Дмитриевым.
Архимандрит Аникита – заметное,
уважаемое имя в истории Русской Церкви. С ним
связано, в частности, возобновление Старого
Руссика на Афоне.
Литературную
известность принесли Шихматову его
лиро-эпические поэмы. «Пожарский, Минин,
Гермоген, или спасённая Россия» – самая ранняя
из них и наиболее известная (по крайней мере,
вызвавшая наибольшее число пародий и эпиграмм).
Вот маленький отрывок из этой поэмы,
живописующий поединок русского ополченца с
сарматом у стен Москвы:
Пылая мужеством обильным,
Алкая славы и хвалы,
Среди курения и мглы,
Спешит сразиться сильный с сильным,
Победой увенчать чело,
Врага низвергнуть в мрачность гроба.
Стеклись, сразились, пали оба,
И солнце жизни их зашло.
Уровень версификационного мастерства
Ширинского-Шихматова исключительно высок.
Современники прозвали поэта
«Ширинским-безглагольным», поскольку он,
создавая большие эпические полотна, умел
обходиться вовсе без глагольных рифм («Как
жалко мне, что он частей и прочих речи, // Как и
глаголы, не щадил», – писал по этому поводу
Вяземский).
Трудно представить, однако, что
мастерски написанные поэмы Шихматова обретут
когда-нибудь вторую жизнь, снова окажутся в
широком обращении. Им недостаёт рукотворности,
художественного беспорядка. Шихматов –
прирождённый лирик, сильный лирик, но
однообразный, – это какой-то педант в лирике.
Ровный накал стихов Шихматова сообщает его
творчеству колорит искусственности,
безжизненности.
(Давно замечено, что поэты «Беседы»,
известные всему свету как ретрограды и
обскуранты, бессильные враги благих
преобразований Карамзина, были в своей
поэтической практике гораздо ближе к
нарождавшемуся на Западе романтизму, чем их
противники. Безусловно, это говорит о
талантливости беседчиков, о их художественном
чутье, но ещё больше – о той фантастической,
предгрозовой духовной атмосфере, которой
«очревател» на рубеже столетий официальный
Петербург и которая отразилась законным
порядком в деятельности полуофициальной «Беседы
любителей русского слова». Молодые же
карамзинисты Петербурга не любили, Москву
презирали, с английским предромантизмом знакомы
не были, германской философией не интересовались
– высшим авторитетом в литературе ещё долго
оставался для них покойный Вольтер.)
Творчество Шихматова целиком
принадлежит предромантизму. Очевидные для нас
сегодня недостатки его поэм (перенапряжённость,
условная психология героев) как раз и были для
своего времени серьёзным художественным
открытием, прорывом к новой, романтической
поэзии. Этим и объясняется их успех у читателей
10-х годов. Но уже к середине 20-х годов на гребне
литературной моды оказываются поэмы Пушкина и
Козлова, в которых те же недостатки сгущены,
очищены от посторонних примесей, возведены в
степень нового стиля. Поэмы Шихматова
стремительно и бесповоротно устаревают.
«Беседа» была обществом ретроградным,
то есть по определению не агрессивным.
Инициатива в литературной борьбе принадлежала с
самого начала карамзинистам, беседчикам
оставалось только огрызаться. Всё же и у «Беседы»
имелись свои поэты-сатирики. Среди них очень
заметен князь Д.П. Горчаков.
Крупная личность и крупный характер,
сформированный веком Екатерины, блестящий
офицер, лично известный Кутузову и Суворову,
отставной коллежский советник, мирно
скончавшийся в Москве за год до событий 14
декабря, – классицист, член Академии,
религиозный вольнодумец и суровый патриот.
«Русский Ювенал».
Стихи Горчакова предназначались
узкому кругу знатоков и единомышленников. Всё,
что размещалось за пределами этого избранного
кружка (печать, морочащая олухов; олухи,
способные восторгаться слащавой и мутной
«коцебятиной»), было Горчакову малосимпатично и
просто не интересно.
Автор крылатых слов:
И наконец я зрю в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной ! –
не мог соблазниться участием в
начинавшемся на Святой Руси «литературном
процессе».
Библиография печатных трудов Д.П.
Горчакова вполне уникальна: она включает в себя
как раз одну книгу, одну-единственную, изданную
внучкой поэта в 1890 году. Но и это издание, по
авторитетной оценке Ермаковой-Битнер, не имеет
«никакой научной ценности». Проблематична и
научная ценность будущих изданий Горчакова (если
они будут, конечно) – архив поэта давно сгорел,
рукописи погибли... Певец, «презревший печать»
(слова Пушкина о князе Горчакове), почти не
оставил материальных следов в литературе,
промелькнул в ней какой-то тенью.
И в одном, по крайней мере, отношении
эта тень была чёрной: известно, что
современники долго путались в вопросе, кому же
всё-таки принадлежит авторство пресловутой
«Гаврилиады», двадцатилетнему шалопаю Пушкину
или шестидесятилетнему члену Академии Горчакову
(бывшему, кстати, почётным гостем на публичном
экзамене в Лицее 8 января 1815 года – наряду с
Державиным)? Советское литературоведение
взлелеяло даже мечту о двух «Гаврилиадах», из
которых вторая, горчаковская, просто затерялась
во времени.
Ключом к религиозному бессмыслию
князя Дмитрия Петровича могут служить следующие
его строки:
Мы слишком в жизни сей страдали,
Чтоб мучить нас ещё в другой.
Поэтические страдания автора имеют
чёткую биографическую основу: имея призвание к
военной службе, но дослужившись к двадцати двум
годам только до майорского чина, он вышел в
отставку, «оскорблённый тем, что его заслуги
недостаточно оценили в высших сферах».
Суворов вступил в Семёновский полк
четырнадцати лет и в двадцать два года был ещё
сержантом, но пример Суворова, как мы уже
замечали, не был в центре внимания лучших
литературных сил страны. Следуя за князем
Горчаковым, мы вступаем в совершенно новый
период русской политической истории. Именно с
этого времени обида на Бога и на царское
правительство, которые «не ценят заслуг» и,
вообще, «бездарны», проникает в среду русского
дворянства. А через десять-двадцать лет она уже
полыхает по всей стране, приобретает характер
грозного эпидемического заболевания.
«Россия дурно управляется» – вот
полное исповедание новой веры, вдохновившей
декабристов на попытку военного переворота.
«Хуже не будет». «Пусть я прапорщик и ничему не
учился, но уж конечно не глупее Аракчеева».
«Как-нибудь справлюсь с управлением хозяйством и
финансами России, раз с этим справляется
Аракчеев». «В странах, где нет Аракчеева,
виноград и персики поспевают к середине лета. Я
это видел своими глазами во время заграничного
похода 1813-1814 годов». И т.д., и т.п.
Но о декабристах, об их незамысловатой
вере весь разговор впереди. Пока что отметим
следующее: благородного Горчакова равнодушие
высших сфер не сделало политическим
заговорщиком.
Враждуя с Карамзиным в литературе (вот,
например, реплика Горчакова на «Письма русского
путешественника»:
А сей, вообразив, что он Российский
Стерн,
Жемчужну льет слезу на шелковистый
дерн,
Приветствует луну и входит в
восхищенье,
Курсивом прописав змее свое прощенье,
–
в меткости ей не откажешь), Горчаков в
политике оказывается союзником зрелого
Карамзина, принадлежит к партии консервативной
оппозиции, к партии противников
скоропалительных либеральных реформ, затеянных
Александром I в начале своего
царствования.
Скажу ещё раз о том, что эти годы – годы
величайшей смуты, величайшего духовного
соблазна. Даже и сегодня, спустя двести лет,
невозможно понять, что же тогда было «хорошо» для
России, что «плохо»: вольтерьянское безбожие или
масонская духовность, либерализм Сперанского
или консерватизм Шишкова. Все двоится. Князь
Горчаков, поклонник Вольтера и Гельвеция, и князь
Ширинский-Шихматов, сотрудник архимандрита
Фотия по переводу «Православного Исповедания»,
мирно сотрудничают в консервативной «Беседе»,
пиетист Жуковский и вольтерьянец Вяземский
оказываются соратниками в рядах либерального
«Арзамаса». Граф Уваров, выдающийся министр
просвещения николаевской эпохи, автор
исторического акта (1832 год), провозгласившего
Православие, Самодержавие и Народность основами
русского государственного строя, входит в эти
годы в «Беседу» и в «Арзамас» одновременно,
является также членом масонской ложи Фесслера –
этого сциентиста, которого Сперанский пригласил
в Россию на должность профессора Духовной
академии...
Смотри! почти везде простерлась мгла
густая,
И атмосфера вся очреватела ей! –
только и остается сказать в
заключение. Соблазн и муть, почти непроницаемые,
вот что такое «дней Александровых прекрасное
начало».
Г.В. Флоровский в «Путях русского
богословия» указывает на историческую заслугу
русского масонства – именно оно противостояло
долгие годы вольтерьянству, «подлинной болезни,
нравственной и душевной», и вызвало-таки в
обществе спасительную реакцию: «духовное
пробуждение... от тяжкого духовного обморока». –
Не меньшей похвалы (но и не большей) заслуживает
русское вольтерьянство, в меру своих сил
оберегавшее общество от мутного мистицизма
розенкрейцеров.
Два зверя, безбожие и оккультизм,
спорили между собой за русскую душу и надолго
ослабили один другого. Поле осталось за мудрым и
терпеливым Филаретом, митрополитом Московским.
К 1831 году, когда Жуковский, выученик
масонского Благородного пансиона, и бывший
вольтерьянец Пушкин смогли выступить совместно,
издав сборник патриотических стихов «На взятие
Варшавы», борьба в основном была уже закончена.
А в 1811 году, казалось, нечего было и
мечтать о благополучном её исходе. Зло
безнаказанно вызревало и наливалось. Наполеон,
«сын Революции... ужасной», тяготел над миром;
Россия униженно следовала в фарватере
французской политики, имевшей целью создание
Мирового правительства.
В 1811 году один из главных
карамзинистов, Василий Львович Пушкин, создает
своего «Опасного соседа» – бурлескную поэму, в
которой описан – и очень живо, очень талантливо
– быт московской бордели. Здесь же ниспровергнут
лишний раз «угрюмый певец», «славянофилов кум»
Ширинский-Шихматов; но особенно крепко досталось
в поэме князю А.А. Шаховскому.
Поучительна история вражды, которую
добродушный и легкомысленный Василий Львович
питал к Шаховскому на протяжении десятилетий.
Возникла она следующим образом. Шаховской,
первый комедиограф своего времени, в комедии
«Новый Стерн» (1803 год) высмеял двух
посредственных литераторов, эпигонов Карамзина,
Шаликова и В. Измайлова. Забавная комедия,
которую и сегодня можно прочесть без скуки, имела
у современников большой успех. Всем вдруг стало
понятно, что истинная чувствительность (если
таковая существует) должна отличаться от ложной
чувствительности графа Пронского. «Удар,
нанесенный Шаховским, был так силен, – читаем в
современном исследовании, – что
сентименталисты... уже не могли оправиться».
Сказать или сделать что-нибудь чувствительное,
сверх того, что уже было изображено Шаховским в
его одноактной комедии, оказалось невозможным, и
сентиментализм мирно испустил дух.
В 1810 году В.Л. Пушкин выступает в печати
с программным посланием «К В.А. Жуковскому»,
заключительная (и лучшая) часть послания была
посвящена личности и учению адмирала Шишкова.
Арист душою добр, но автор он дурной
И нам от книг его нет пользы никакой;
В странице каждой он слог древний
выхваляет
И Русским всем словам прямый источник
знает:
Что нужды? Толстый том, где зависть
лишь видна,
Не есть Лагарпов курс, а пагуба одна.
В Славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.
В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть ещё
ученье;
Нам нужны не слова, нам нужно
просвещенье.
То есть, образованный человек, деятель
русской культуры, не обязан разбираться в языке
русского богослужения. Развивать и
совершенствовать свой вкус, изучать 16-ти томный
курс эстетики, составленный Лагарпом, – вот
первоочередные задачи, стоящие перед писателем в
России.
Князь Шаховской поднимает перчатку,
брошенную Шишкову. В ирои-комической поэме
«Расхищенные шубы», над которой работал в то
время Шаховской, появляется проходной персонаж
по имени Спондей, любитель покушать. Когда
Гашпар, главный герой поэмы, выступает в неком
собрании с затянувшейся речью, Спондей внезапно
выстреливает в него четырьмя последними стихами
послания «К В.А. Жуковскому» (только в обратном
порядке и с заменой «творенья» на «витийство») и
заканчивает свою эскападу настойчивой просьбой
говорить «кратче» – дело в том, что пробило
десять часов и Спондею пора завтракать.
Вот и всё. В ответ на эту обиду и
появляется в «Опасном соседе» отрывок,
посвящённый Шаховскому. Этого автора, по мысли
В.Л. Пушкина, могут читать и ценить только в таких
местах, где:
Пунш, пиво и табак стояли на столе.
С широкой задницей, с угрями на челе,
Вся провонявшая и чесноком и водкой,
Сидела сводня тут с известною
красоткой.
...
Две гостьи дюжие смеялись,
рассуждали
И Стерна Нового как диво величали.
Прямой талант везде защитников найдет!
Но вот кривой лакей им кофе подаёт...
Так родился полемический прием,
которому суждено было расцвести пышным цветом в
русской демократической поэзии 60-х годов XIX века.
Читающая публика, жадная до всякой
новизны, приняла с восторгом и эту новинку: слова
«прямой талант везде поклонников найдёт»
надолго стали пословицей. Сам Василий Львович,
перечисляя на старости лет свои заслуги перед
Поэзией и Правдой, особенно выделил эту:
Я злого Гашпара убил одним стихом.
И вот здесь стоит остановиться и
задуматься.
Безусловно, «Расхищенные шубы» –
слабая вещь, но все правила приличия, принятые в
общежитии, в ней соблюдены. Не вызывает сомнений
и существо вопроса: добродушный прожорливый
Спондей, действительно, похож на Василия
Львовича, некоторые легковесность и
пустозвонство, действительно, отличают послание
«К В.А. Жуковскому».
«Опасный сосед» – вещь
ярко-талантливая, но выпад против Шаховского,
содержащийся в ней, груб и несправедлив. «Новый
Стерн» так же не у места в публичном доме, как
«Влюблённый Демокрит» Реньяра или «Метафизик»
Хемницера. В сущности говоря, Шаховской пал
жертвой элементарной провокации: пронырливый
Василий Львович подбросил пьесу своего заклятого врага в
домишко «с калиткой на крюке» – и, торжествуя,
пригласил понятых…
Совсем по-другому оценивали эту
ситуацию карамзинисты.
«В его «шубах» не одному Пушкину
досталось, но всем честным людям, – пишет
Батюшков в 1812 году князю Вяземскому – Какое
невежество! какая бесстыдность!». «И какая
знакомая мораль!» – добавим уже от себя.
Тонкая и учтивая ирония – зло, ею задет
«честный деятель». Грубое оскорбление – добро,
ещё и не так следовало бы обругать
невежественного, бесстыдного, злого Шаховского.
– Чем же доказывается злоба
Шаховского? – Тем, что он иронизировал над
честным деятелем. – А невежество и бесстыдство?
– Тем же самым.
Мораль такого типа именуется в обиходе
готтентотской. Запомним на будущее, что, задолго
до Чернышевского и Д. Минаева, готтентотскую
мораль во всем ее немудрящем блеске
продемонстрировал нам Константин Николаевич
Батюшков – превосходный человек и тонкий поэт.
Значит, дело не в личных качествах, не в степени
образованности и даже не в пресловутой
«внутренней культуре». Корень зла не в этом. Ну
что, в самом деле, общего у Батюшкова с
Чернышевским? Да только одно: принадлежность к
прогрессивному крылу в литературе.
Добро, которое не для Бога делается (мы
уже говорили об этом), замутняет духовное зрение,
горячит кровь, вызывает повышенное самочувствие:
«Тут подлецы, там негодяи, здесь я с горсткой
честных людей». Понятно, что личные грехи
перестают смущать литератора, столь густо
обступленного негодяями и подлецами.
Присягнувший на верность какой-нибудь очередной
Партии Добра, неминуемо попадает из царства
благодати в царство пошлости...
Любопытно проследить за тем, как
покарала Немезида активнейшего из
карамзинистов: князя Вяземского. В юности своей
он долго преследовал А.А. Шаховского злыми
насмешками (пользуясь при случае его
художественными открытиями – см. стихотворение
1811 года «Отъезд Вздыхалова», написанное
полностью по мотивам «Нового Стерна»), девять его эпиграмм,
направленных против опального комедиографа,
составили цикл «Поэтический венок Шутовского». В
старости, когда стал чище жить и лучше писать, сам
попался на зубок бешеному правдолюбцу
Белинскому со товарищи, стал известен читающей
России под именем «князя Коврижкина», «холопа в
литературе».
Что ж, «Коврижкин» как аргумент в
литературном споре ничуть не уступает
«Шутовскому».
Назовём ещё два-три имени и на этом
закончим, наконец, перечисление новых поэтов,
заявивших о себе в начале царствования
Александра I.
Панкратий Сумароков – внучатый
племянник Александра Петровича Сумарокова,
автор очень талантливых пародий и эпиграмм.
Провел пятнадцать лет в Тобольске, куда был
сослан царем – держитесь крепче, я процитирую
сейчас советский источник – «за необдуманную
подделку крупной ассигнации». Сумел оживить
литературную жизнь Сибири.
Сумарокова карамзинисты не трогали,
может быть, уважая в нем жертву самовластья.
Анна Бунина – девица из хорошего
дворянского рода, но одинокая, бедная и больная.
Императрица назначила Буниной пенсию –
наверное, этим объясняются нападки на нее
нестяжателей-карамзинистов, будущих арзамасцев.
А иначе трудно объяснить их вражду – Бунина
очень порядочный поэт, образованный, опрятный,
строгий, и, как заметил Карл Грот, сын академика:
«Имя «русской Сафо» дано ей вовсе не в насмешку, а
как лестная, шутливая похвала со стороны
многочисленных и достаточно компетентных
поклонников ее дарования». – Притом, на
подвижническую и печальную жизнь Буниной
отбросила трагическую тень ей неразделенная
любовь к И.И. Дмитриеву. И вот тончайший,
культурнейший Батюшков пишет по поводу этой
любви эпиграмму (как бы от лица Дмитриева), просто
обескураживающую своей грубостью и топорностью:
Ты – Сафо, я – Фаон, об этом и не
спорю,
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю, –
как-то их всё смешило, этих молодых,
этих передовых людей.
Последние шесть лет жизни Бунина
медленно умирала от рака, не могла уже ни сидеть,
ни лежать, могла только стоять на коленях и так
жила, писала, переводила – очень странно, что по
этому поводу нет ни одной эпиграммы. Тут
арзамасцы недоглядели.
Средний уровень русской поэзии в это
время уже очень высок, близок Золотой век, выход
на поверхность золотоносной жилы, и в породе уже
очень часто попадаются частицы золота. Вот одна
из таких крупинок у Буниной:
Блеснул на Западе румяный царь
природы,
Скатился в океан и загорелись воды.
Безусловно, душевный склад Буниной старомоден , строй ее лиры
несовременен, но стоит ли так уж сильно надеяться
на эту нашу современность, которая тоже ведь
уйдет в прошлое – со своими модами, со своим
«Союзом Независимых Государств». Ещё неизвестно,
чей душевный строй окажется ближе далекому
потомку, – а он будет общий у нас с вами и у Анны
Петровны Буниной.
В это же время расцветает дарование Озерова,
ставшего властителем дум своего поколения –
поколения, отстоявшего Россию в Отечественной
войне.
Трагедия Озерова – гибрид
классической трагедии и сентиментальной
повести. Чувствительные монологи его героинь в
исполнении великой актрисы Семеновой потрясали
зрителей, хотя, конечно, не прибавляли пьесам
Озерова достоинств чисто драматических.
Мы помним, что князь Шаховской когда-то
выступил против чувствительности Шаликова и В.
Измайлова, он же был до 1818 года членом дирекции
Императорских театров – и вот в среде
карамзинистов родилась легенда (абсолютно
беспочвенная) об интригах Шаховского,
повредивших театральной карьере Озерова и
приведших к душевной болезни драматурга.
Шаховской и Озеров надолго стали Ариманом и
Ормуздом арзамасской мифологии.
Мы далеко не всех
талантливых поэтов начала XIX века вспомнили
сегодня (не успели поговорить о Милонове, о
Марине, даже о Каменском) – молодых дарований
было много, и в обществе интерес к поэзии был
чрезвычайно велик.
Расцвет налицо. Но за этим расцветом
явственно ощущается неблагополучие, какой-то
ветер гуляет по стране – злой сквознячок,
предвестник «большого ветра от пустыни».
Кризисное время, напоминающее так
сильно канун Первой Мировой войны, когда тоже
наблюдался в России кратковременный расцвет
искусств.
В предчувствии смертельной опасности,
гений нации напрягается, торопясь выполнить своё
задание – тот же закон понуждает фруктовые сады
цвести особенно обильно и плодоносить до
истощения в канун самых морозных, губительных
зим.
И еще одна черта этого времени (для
современников вовсе незаметная, но
ослепительная для потомков) должна быть
обязательно упомянута. Прекрасно сказал о ней
Иван Сергеевич Аксаков, воспользуемся его
словами:
«И вот, в урочный час, славно
таинственной рукой раскидываются по воздуху
семена... и падут они, как придется, то на
Молчановке в Москве на голову сына гвардии
капитан-поручика Пушкина, то в тамбовском селе
Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в
брянском захолустье на Тютчева...»
Названы три имени. В иерархии русских
поэтов за ними закреплены (и думается, навечно)
верхних три места. Вспомним ещё Языкова,
Дельвига, Веневитинова, Хомякова... Весело просто
перечислять эти имена. Родившись в урочный час,
пережив детьми нашествие иноплеменников, они
остались в истории обаятельнейшим литературным
поколением России, её славой, нашим утешением.
1803 год памятен в
истории русской поэзии как год рождения Тютчева.
В том же году адмирал Шишков, первый в России
детский поэт и член Академии (впоследствии –
многолетний ее президент), печатно выступает
против литературной моды, против Карамзина.
Шишков и Карамзин. В дальнейшем это
противостояние разовьется в противостояние
«Беседы» и «Арзамаса», к концу 30-х годов
оформится окончательно как противостояние
западников и славянофилов. Тема огромная, и нам
неизбежно придется ее сузить и упростить, иначе
наша тема, тема поэзии, совсем утонет в волнах
историософии, культурологии и прочих стихий века
сего.
Итак, в своем «Рассуждении о старом и
новом слоге российского языка» Шишков выступил
против нового литературного стиля, опиравшегося
на разговорную речь образованного общества. По
мысли Шишкова, эта речь настолько засорена
галлицизмами, что не только не способна служить
образцом, но и русской-то речью может быть
названа лишь с большой натяжкой.
Развивая учение Ломоносова о трех
стилях, Шишков подразделяет русский язык на три
уровня, на три «слога» – источником высокого
слога являются у него священные книги Русской
Церкви, источником простого слога – народная
поэзия и русские летописи, а вот средний слог (т.е.
именно язык образованного общества) должен, по
мысли Шишкова, находиться в живой связи с высоким
и простым слогами, должен из их запасов
непрерывно обогащаться .
Карамзин, как известно,
никогда не отвечал на критики, не ответил он и на
вызов Шишкова. За него это сделали
образованнейшие из карамзинистов, Макаров и
Дашков. Их антикритика свелась к тому, что они,
во-первых, уличили Шишкова в каких-то
микроскопических погрешностях против
церковно-славянского языка, а во-вторых, с
торжеством указали Шишкову на тот факт, что его
собственный «средний слог» не вполне свободен от
галлицизмов. («Сам дурак», «сам съешь» – ещё один
полемический приём, которому уготована была
блестящая будущность.)
Больше с Шишковым не спорят, его
обходят стороной; литературная молодёжь
воспитывается в духе отрицания его идей (причём,
детальное знакомство с ними не является чем-то
обязательным или хотя бы желательным), и, по
свидетельству современника, «всякий, кто
осмеивал этого старовера и славянофила, имел
верный успех в модном свете».
Можно было бы порадоваться за русское
общество начала ХIХ в. – порадоваться тому, что
языкознание сделалось для него предметом важным,
вызывающим сердечное участие и горячие споры, –
но, к сожалению, радоваться здесь особенно
нечему. Перефразируя поэта Некрасова, можно
сказать, что «не очень много занимались
языкознанием тут, и не в языкознании была тут
сила».
Ведь о чём, в сущности, спорят Шишков с
Карамзиным?
Основная интуиция молодого Карамзина
выражена в «Письмах русского путешественника»
тремя словами: «Россия есть Европа». Европейская
жизнь потому и описывается Карамзиным с такою
приятностью и аппетитом, что это (по замечанию
Лотмана) «некоторое возможное будущее России».
Как всякий западник, молодой Карамзин принимает
Запад целиком: трагическое мирочувствие Руссо и
просветительский оптимизм Вольтера нравятся ему
одинаково, несовместимости этих мирочувствий он
не замечает. «Единство и братство всех
просвещенных народов абсолютно неизбежно. Небо
над всей Европой безоблачно. Русский человек
есть европеец, только недоделанный.»
Как всякий западник, Карамзин отстает
от европейского просвещения. Шишков же,
утверждая наличие вечных черт национального
характера, утверждая (в 1803 году) незакономерность
влияния одной национальной культуры на другую,
находится в завтрашнем дне европейской науки.
Это – темы немецкого романтизма.
Основную интуицию Шишкова удобнее и
легче всего будет выразить словами Катенина –
писателя, не принадлежавшего «Беседе» формально,
но, как бы это поточнее сказать… Аполлон
Григорьев сказал бы, что сама «Беседа» была у нас допотопной
формацией Катенина.
Итак, символ веры молодого Карамзина –
«Россия есть Европа». А вот точка зрения
Катенина:
«Россия искони не имела ничего общего
с Европой Западной: первые свои познания
художества и науки получила она от Цареграда,
всем рыцарям ненавистного, ими коварно
завоеванного на время, жестоко и безумно
разграбленного. В наших церквях со слезами и в
черных ризах умоляли на милость гнев Божий, когда
крестовики в своих пели торжественные молебны».
Арзамасец Батюшков называл
церковно-славянский язык «мандаринным, рабским,
татарско-славенским» и восклицал: «Когда
переведут Священное писание на язык
человеческий?» – А вот мнение Катенина о
славянской Библии:
«Мы признаём её краеугольным камнем
нового здания, которое воздвигнул Ломоносов,
достраивали Петров, Державин, Костров, Дмитриев,
Озеров, князь Шихматов, Гнедич и другие, писавшие
с дарованием в роде высоком».
Но это всё Катенин напишет позже, после
войны 1812-1814 годов, в которую сам Катенин был
боевым офицером в Преображенском полку, а Шишков,
государственный секретарь Российской империи,
«двигал духом России... Писанные им манифесты
действовали электрически на целую Русь» (С. Т.
Аксаков).
А пока что добродушный и прямолинейный
Александр Семёнович в своём «Рассуждении о
старом и новом слоге...» мимоходом удивился тому,
что многие молодые люди, впрочем «весьма острые и
благомыслящие», предпочитают новый слог старому,
хотя старого-то и не знают, «не читав ничего,
кроме переводимых по два тома в неделю романов, и
не бывав сроду ни у заутрени, ни у обедни».
Вот это последнее замечание и вызвало
бурю ненависти к Шишкову. И, прежде всего, оно
было определено как «донос». И это очень смешно.
Имя Карамзина в «Рассуждении...» не
упоминалось ни разу; но если бы даже Карамзин,
действительно, отроду не бывал в церкви, а Шишков
написал по этому поводу формальный донос и отнес
его в канцелярию Священного Синода, то,
разумеется, никаких последствий для Карамзина
такой донос в 1803 году не имел бы. А вот Шишкову,
подавшему своё мнение по вопросу, лежащему вне
сферы адмиральской компетенции, пришлось бы
явиться к митр. Амвросию и получить
соответствующее внушение.
Тем не менее, эти слова («доносчик»,
«донос»), распространяясь шире и шире, оказывали
вполне понятное воздействие на пылкую
дворянскую молодёжь, определяли её отношение к
личности адмирала Шишкова. Здесь мы присутствуем
чуть ли не при рождении той «странной власти»,
которая стала в России XIX в. «сильнее всяких
коренных постановлений». – Вы понимаете, что я
говорю сейчас про либеральную жандармерию. Она
появляется на свет намного раньше, чем
жандармерия официальная, которую вынужден был
завести Николай I после событий 14 декабря.
Ненависть молодых карамзинистов к
Шишкову очень понятна психологически.
Карамзиниста ведь «несёт»: он
по-новому совершенно чувствует, он культивирует
такие вкусы, такие привычки, о которых и слуху не
было лет 10-20 назад в стране Скотининых и
Простаковых, он в восторге от себя самого и от
своих друзей – и вдруг из пустыни (ибо мир, в
котором не живут сердцем, пустыня) раздаётся этот
грубый равнодушный голос, напоминающий о
церковной службе, которую нужно выстаивать
два-три часа (а каково это человеку подвижному?),
за которой нужно молчать, выслушивать
ненавистную славянщину, после которой
какой-нибудь поп, того и гляди, ткнёт тебе в губы
руку для поцелуя или даже крест... Тут мудрено не
прийти в бешенство! И кто напоминает, кто учит?
Старик Шишков, который сам женат на лютеранке, в
доме у которого на французский манер, как у всех
порядочных людей, воспитываются племянники!.. Что
ему нужно, чего ему не хватает!?
В историческом споре Карамзина с
Шишковым Карамзин, как мы помним, не участвовал.
Он занимался русской историей, погружался в
работу всё глубже, в чём-то менялся, старел...
Пройдёт совсем немного времени, и Шишков с
одобрением напишет, что в своей Истории Карамзин
«не образовал язык, но возвратился к нему, и умно
сделал».
То есть, язык «Истории государства
Российского» есть именно тот язык, за который
ратовал президент Российской Академии А.С.
Шишков. В год выхода в свет первых восьми томов
«Истории...» ее автор избирается, наконец, в члены
Академии.
5 декабря 1818 года Карамзин произносит
вступительную речь. И говорит о том, что высшей
целью мировой истории является «раскрытие
великих способностей души человеческой». Ничто
иное. Русская пословица «каков в колыбельку,
таков и в могилку» вполне оправдалась на
Карамзине. Верность гуманистическим идеалам он
сохранял до конца.
Но ведь только в двадцатом веке
гуманизм выговорил своё окончательное слово:
человекобожие, антихристианство. В 1818 году сам
чёрт, наверное, не до конца представлял, куда
заведёт вдохновлённое им движение. Шишков, во
всяком случае, этого не знал. Для него достаточно
было, что Карамзин «возвратился к языку» (якобы),
перестал его портить. Вражда между Шишковым и
Карамзиным затухает, не успев разгореться.
Но карамзинисты полны боевого задора,
у них зубки прорезались и, как это обычно
случается с молодыми зубками, зачесались;
карамзинисты создают «Арзамас» – общество
скорее ритуальное, чем литературное.
«Беседа любителей русского слова»
(«губителей», в прочтении карамзинистов) была
основана в 1811 году, на следующий год началась
европейская война, а уже по ее окончании, в 1815
году организовался «Арзамас». Подробнее об этом
времени мы поговорим, если Бог даст, в следующий
раз. Сегодняшнее Чтение закончено. И только одно
замечание – на дорожку, чтоб было о чём подумать
в перерыве.
Название «Арзамас» родилось следующим
образом. Некий воспитанник Академии художеств,
женившись, переехал на жительство в Арзамас. И,
раз уж всё равно приходилось ему там жить, открыл
при своём доме частное учебное заведение – школу
живописи.
По какому-то случаю, об этом прослышал
Вяземский, узнали другие молодые карамзинисты, и
им это показалось невероятно смешным: в
захолустном Арзамасе обнаружилась Школа
Живописи!.. Стали обыгрывать смешную ситуацию,
перебрасываться словечками; кто-то придумал
назвать эту школу Арзамасскою Академиею –
получилось ещё смешнее («хохот пуще», как сказал
бы Грибоедов); и, наконец, в подражание учредили в Петербурге
«Арзамасское учёное общество».
Таким образом, молодые карамзинисты
избрали Арзамас как символ русского захолустья и
русской дикости, подняли для борьбы с «угрюмым
славенофилом» Шишковым такое вот издевательское
весёленькое знамя, которое означало: «Вот тебе
твоя народность. Ар-за-мас! На, ешь...»
Довод неотразимый, конечно; набравший
особенную силу в послесоветский период нашей
истории. Но именно к Арзамасу приписаны
Саровская пустынь и Дивеево – это всё
Арзамасский уезд; Серафим Саровский прожил здесь
55 лет, а с 1810 по 1815 год находился в строгом
затворе, молясь за Россию, чьё существование
подвергалось в эти годы смертельной опасности. И
именно к этим местам приковано сегодня (после
обнародования архиепископом Аверкием Великой
Дивеевской тайны) внимание всего православного
мира.
Такая вот история с «Арзамасом», такое
совпадение, которое можно при большом желании
счесть случайностью.
Продолжение; см. «РС»
№№ 2, 3, 5-6.
От редакции
На этом мы заканчиваем
публикацию «Чтений о русской поэзии», начатую,
напомним читателю, в 1995 г. во втором номере «РС».
Дело в том, что со своего первого номера за 2000 г.
исследование Н.И. Калягина стал печатать
известный журнал «Москва», включая и те главы,
которые уже появились в нашем журнале – но
почему-то забыв отметить этот факт. Не будем
комментировать эту странную «забывчивость»
(странную тем более, что мы, то есть редакция «РС»,
охотно дали автору свое согласие на
перепечатку его «Чтений» в другом издании).
Важнее другое. Во-первых, мы от всей души желаем
Н.И. Калягину успешного продолжения (а со
временем и завершения) его замечательных
«Чтений». Во-вторых, мы напоминаем, что Николай
Иванович выступал в нашем журнале и как автор
других работ, связанных с русской поэзией (статья
об Аполлоне Григорьеве, выступление на
«Пушкинских чтениях в Русском Философском
Обществе») – и наше сотрудничество с ним,
несомненно, продолжится, причем уже в следующем
номере. Если же, паче чаяния, нам случится
перепечатать какую-то из статей Н.И. Калягина (или
другого автора) из «Москвы» (или другого издания),
мы, конечно, не проявим «забывчивости», которой,
по-видимому, страдают некоторые из наших коллег
по журнально-издательской деятельности |