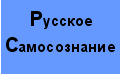В.Н. Карпов
О самопознании 1
Слово, призывающее к самопознанию, однознаменательно с зовом, которым дитя, бегающее по цветистому лугу и гоняющееся за мотыльком, призывают домой. Как досаден этот зов! Как враждебен он расположению к рассеянности, привычке жить вне себя, – на распутиях богатой, разнообразной, непрестанно обновляющейся и как будто вечно празднующей природы! Не лучше ли раздолье, простор, постоянная смена предметов, явлений, впечатлений, чем тесный горизонт жизни, скучное однообразие деятельности, бесконечное повторение все тех же и тех же ощущений? “Нет, рано ещё домой!” – отвечает дитя на призывный голос, и бежит далее и далее по роскошным коврам весны, которыми она так щедро устилает землю. Но вот весну сменяет лето, за летом следуют – осень, зима; проходит год – другой, минули десятилетия, – и дитя в приятном самозабвении, переходя от одних забав к другим, достигает уже зрелого возраста. Воротиться бы домой! Но как прекрасен свет со всеми его обаяниями, приманками, надеждами, удовольствиями! Куда ни посмотри, везде – вблизи и вдали, как будто волшебством рисуются картины блаженства и манят к наслаждению.
Вон там, на перспективе жизни, узорчато разнообразными формами ослепляют зрение фантомы богатства и очаровывают воображение прелестью роскоши. Неужели не стоит труда достигнуть сокровища и, сделавшись его обладателем, украсить им свою жизнь? – И искатель драгоценного камня неутомимо бежит за блестящим метеором, пока не успокоится под камнем могильным. Вот отсюда идёт тропинка на ту высокую гору, облитую радужным сиянием почести, славы и власти. Неужели не стоит всевозможных усилий подняться на ту высоту и вступить в ряды той блестящей фаланги, чтобы жизнь пошла шире, сделалась показнее, выпуклее и для всех заметнее? – И маленький кесарь решается на борьбу со всеми препятствиями, – идет, спотыкается, падает, поднимается, снова падает и снова поднимается, пока не приблизится смерть и не скажет ему: “ты от земли, и земля твой удел!” Вот здесь средоточие большого стечения народа, откуда доходят до слуха приятные звуки музыкальных инструментов, шумные выражения увеселений, громкое эхо восторгов. Неужели не стоит нескольких часов времени, чтобы, вмешавшись в эту веселую толпу, разделить с ней её радость? – И новый Аристипп
[1], подобно древнему, определяющий цену жизни одними наслаждениями, заботливо рыщет от удовольствий к удовольствиям, пока не иссякнет живое чувство, не притупится вкус, и на дне выпиваемой чаши не ощутится горький, убийственный осадок. А что там – далеко, далеко, где с землей как будто сходится небо и замыкает горизонт зрения? – Длинен путь и утомителен. Может быть лучше бы сперва побывать дома, чтобы запастись силами и средствами для столь далекого путешествия. Но как устоять против приманок любознательности! Там конец земли и начало неба; там должны разрешиться все загадки бытия и войти в область человеческих познаний; все, доныне недоступные разуму тайны; там последнее торжество науки, апофеоз ума, венец его усилий постигнуть законы мироздания. – И всесветный исследователь терпеливо идет, по тернистому поприщу ученых трудов, к той постоянно отодвигающейся точке соединения небесных истин с земными, пока возникающие одни за другими, неразрешимые вопросы, и как бы насмехающиеся над его усилиями, непримиримые противоречия, не убедят его в слепоте и невежестве.Так всю свою жизнь, от детства до старости, мы проводим большей частью вне себя, гоняясь то за материальными выгодами, то за внешним блеском, то за приобретениями в области наук и искусств, то даже за самыми пустыми и бесплодными удовольствиями; а идти домой и посмотреть, что у нас есть и чего нет, что делается и чего не делается, что требуется в жизни внутренней для внешней, и каким образом приобрести эти условия? – того мы не хотим. Отчего такая странность, такое одностороннее направление? – Во-первых, без сомнения, от того, что мы, в экономии своей жизни, смешиваем две совершенно различные вещи – самопознание и самолюбие; во-вторых, от того, что не знаем, в чем собственно должно состоять самопознание, и как важно оно в нравственной
жизни человека.В старину, вероятно вслушавшись в оригинальные рассуждения философа Сократа, люди, по-видимому, мыслящие и умные часто повторяли, как добрый совет, надпись, бывшую, говорят, на Дельфийском храме: “познай самого себя”. А познать самого себя значило тогда, по словам мудреца Платона, открыть: “зверь ли я, многосложнее и яростнее Тифона, или животное кротчайшее и простейшее, носящее в своей природе какой-то жребий божественности и незлобия?”
[2]. Этот вопрос, в те времена, казался очень трудным и приводил в недоумение самих философов; а ныне он многим представляется до того легким, даже маловажным, либо пустым и мечтательным, что возбуждает в них только улыбку сожаления о детском смысле древних мыслителей, любивших входить в туманную область отвлечения и не могших решать такой безделицы просто и ясно! В самом деле, кто теперь не понимает, что такое он? Даже кто теперь не обиделся бы, если бы сказали ему, что он не знает себя? “Как, я не знаю себя?” – возразит иной, современный мудрец. “Я такой-то человек, житель такой-то страны, богат или беден, знатен или незнатен, учен или неучен”, – и прочее тому подобное.“Как, я не знаю себя?” И в убеждении, что человек сам для себя вовсе не загадка, многие живут и умирают. Что же? Основательно ли такое убеждение? Оправдаем ли мы его? Может быть и оправдали бы: если бы в выражении: “я знаю себя”, не поставляло нас в недоумение это обманчивое себя. Оно здесь ясно обнаруживает хамелеоновскую природу, расположенную менять свое значение, и вдруг – то являться в разнообразных формах предметов внешнего мира, то прятаться в ничтожестве бессодержательного – Я. Попробуйте заметить человеку, хвалящемуся таким самопознанием, что по внешней, принадлежащей ему, обстановке, гораздо больше знают его другие, чем он сам себя,
– и он, чтобы защитить свою личность, тотчас, будто улитка в раковину, завернется в своё Я. Попробуйте опять поставить ему на вид, что его Я пусто, не имеет никакого содержания, – и он вдруг развернется и явится перед вами под разнообразными условиями внешней своей жизни. Такую хамелеоновскую его изворотливость вы можете остановить только одним замечанием, что когда человек знает себя в отечестве или сословии, в богатстве или бедности, в знатности или незнатности, в учености или неучености, и тому подобное; тогда он знает не себя, а своё, а это своё, по какому-то нравственно-оптическому обману принимает за себя, – тогда он составляет о себе понятие по внешним, ограничивающим его, приметам, которые не имеют ничего общего с самой его природой. Таких примет может быть бесчисленное множество, и разнообразию их нет конца: но чем многочисленнее и разнообразнее они, тем больше закрывается ими человек от самого себя, и в этой многосложной обстановке представляется себе самим собой, хотя, на самом деле, не видит в себе никакого содержания, не замечает никакого разнообразия явлений, и потому не составляет о себе никакого понятия. Это в полном смысле эгоист, которого значение состоит именно в том, чтобы самому в себе, в своей природе, не иметь никакого значения; ибо, как скоро человеческое Я, перед анализом самопознания, начинает разлагаться и обнаруживает какие-нибудь свойства, – внешние покровы тотчас спадают с глаз, самоослепление теряет свою силу, заблуждения представляются перед очами души будто страшилища, – и кумир эгоизма падает в прах. Итак, эгоистическое знание себя в своём не только не есть самопознание, но и противоположно ему: это два враждебные начала, в одной и той же душе несовместимые и взаимно себя изгоняющие. А потому древние мыслители, ища средств против господствовавшего в человеческих обществах эгоизма, иначе понимали силу самопознания и хорошо делали, что прилагали его к человеку. Веря им, мы теперь постараемся рассмотреть, в чем состоит оно.Самопознание требует, чтобы человек, отвлекая свой взгляд от предметов внешних, которые известным образом ограничивают его, обращался к себе, входил в себя и замечал в своей природе все, какие представятся ему, общие или частные, существенные или случайные, хорошие или худые свойства. Тут надобно обращать внимание не на то, как обставлены мы извне, а на то, чем обусловлено само наше бытие и каким оно является нам в сознании. Тут мы должны забыть не только все принадлежащее нам вне нас, но и собственную свою личность, как нашу, чтобы между сознанием и нами не посредствовало никаких эгоистических интересов, маскирующих или скрывающих нас от нас самих, но смотреть на себя как на предмет, для нас посторонний, и снимать с него самый верный и точный портрет, не упуская из виду ни одного оттенка, полагаемого на нём его началами, законами, стремлениями и действиями. Тогда, перед испытующим взглядом самопознания, наша природа, будто дерево пред огнем, начнет мало-помалу развертывать свои покровы, открывать свои силы, обнажать сокровенные пружины своей деятельности и отражаться в нашем сознании всеми, самыми глубокими и коренными свойствами. Так, самопознание и мудрецы отдаленной древности, и прозорливые исследователи человеческой природы в мире христианском, и сообразно с таким понятием, для вернейшего успеха на этом поприще,
познакомили нас с двумя различными методами самопознания, которые, если позволят нам читатели воспользоваться в этом случае терминологией школы, мы назовем практическим и теоретическим.Известно, что ещё
Пифагор поставлял в обязанность своим ученикам каждый вечер пересматривать всё, что они мыслили, что чувствовали, чего желали и что делали в продолжение минувшего дня, и, подвергая строгому суду всякое движение ума, воли и сердца, извлекать из того полезные уроки на время будущее. Такой способ самопознания, у Пифагора входивший только в план воспитания юношества, по-видимому, был бы весьма полезен и в приложении ко всякому возрасту. В самом деле: какой страж над известным человеком мог бы быть надежнее этого самого человека над самим собой? Кто с таким усердием, с такой заботливостью охранял бы его от всего дурного и постыдного, как охранял бы он сам себя? Да и кому так ясно знать каждое движение его души, как ясно отражается оно в собственном его сознании? Исповедь перед самим собой всегда готова; преступная мысль и укоризна пробуждаются вместе; постыдное чувство не спрячется от упрека совести; и вот человек – на хорошем пути, идёт ровно, не уклоняется ни направо, ни налево, весь в пределах закона, и сам по себе – олицетворенный закон. Чего лучше? Без сомнения, с этой идеальной точки зрения смотрел на человека и Платон, когда начертывал теорию гражданского общества, и, стоя на высоте созерцания, говорил, что граждане его, входя в себя и верно изучая свою природу, не дожидаются никаких внешних побуждений или ограничений, но с полной свободой и мыслят, и чувствуют, и делают только то, что она предписывает. В таком обществе, по заключениям Платона, не нужны были бы ни понудительные меры, ни запретительные постановления, ни уголовные законы. Но сколь ни важно самопознание в истинном его значении, сколь ни необходимо оно для существенных польз человека, – мы отнюдь не обещаем ему таких идеальных плодов, потому что, познавая себя, человек прежде всего будет открывать в своей природе множество недостатков, заблуждений, дурных наклонностей, преступных желаний, а главное – заметит крайнее бессилие противостоять порочным стремлениям и, через непроницаемую завесу лжи и обмана, усмотреть истину. И эти, приобретаемые и показываемые вековыми опытами, плоды практического самопознания далеко лучше тех несбыточных и неосуществимых идеалов, потому что свидетельствуют о пробудившемся сознании нравственной болезни, которой эгоизм нисколько не чувствует, и показывают, что душа, в таком случае, окрыляется желанием исцеления и бывает готова искать врача уже не на земле, а на небе.Слабый проблеск такого самопознания, обличавшего немощь и расстройство человеческой природы, мы, не без изумления, встречаем ещё
в мире языческом, когда слышим, что Сократ, беседуя с Алкивиадом о молитве [3], считает нужным сперва прогнать мрак, которым покрыта его душа, а потом уже показать ей то, чрез что она могла бы познать зло и добро, – и такого рассеивателя душевной тьмы ожидает с неба. Но особенно быстрые успехи оно сделало в Христианстве, вспомоществуемое Божественным Откровением, которое возвестило людям о незамеченной естественными силами ума, причине зла во всем человеческом роде и указало на действительное начало распространившихся в нём заблуждений. Под руководством этой небесной истины, практическое самопознание для христиан, а особенно для великих христианских подвижников, было непрерывным делом целой жизни. Они с неослабной бдительностью наблюдали за каждым появлением своей мысли, внимательно следили за самыми тайными своими чувствованиями и желаниями, и силой Божией благодати, призываемой молитвами и самоотвержением, прозорливо предотвращали даже малейшее поползновение своей природы к нарушению небесной правды, внушаемой начертанным в человеке законом духа и гласно проповедуемой в слове Божием. Постоянно изучая в себе человеческое существо, прислушиваясь к непреложным его требованиям и наблюдая: за что, для чего и отчего находится оно в вечной борьбе с самим собой, они, лучше всех мудрецов света, понимали истинное достоинство и назначение человека, и небесного не приносили в жертву земному, а земного не чтили, как небесное. Самопознание приводило их к твердому убеждению, что все великое и прекрасное во времени должно быть почитаемо великим и прекрасным, поскольку образует, улучшает и приготовляет человека для вечности.Так познавали себя великие подвижники в мире христианском, – и самопознание их не только было благотворно для них самих, но имело обширнейшее и благодетельное влияние на самое окружавшее их общество. Оно обуздывало в нём порывы эгоистического самомнения, сообщало ему прекрасный характер христианской скромности и сдержанности, без которой, превозносимая ныне, цивилизация никогда не установится, и располагали его к жизни мерной и ровной, к деятельности строгой и обдуманной, к основательности во всех его предначинаниях. Если справедливо замечают, что все великое и благотворное, на открытых и шумных путях света, первоначально зарождается в тишине уединенных и молчаливых кабинетов; то равно несомненно, что все прекрасное первоначально зарождающееся в кабинетах, имеет свой корень в семени, отысканном через самопознание в тайнике хорошо изученной души. Проникните в вашу душу, поймите ее, сколько возможно, более и вернее, – при свете христианских убеждений, – и тогда, в уединении вашего кабинета, зародится истинное и доброе, и эта жизнь истинного и доброго отразится на всем, к чему вы находитесь в отношении, по условиям быта домашнего и общественного. Не утвердившись на этом начале христианского самопознания, ни один кабинет никогда не выдумает ничего прочного, всегда и для всех благотворного; потому что самопознание отверзает душу для принятия Божией благодати; а без Божией благодати, даже и то, что во внешних наших действиях как будто имеет право на всеобщее удивление, может послужить более ко вреду, чем к пользе, и нам, и целому обществу.
Самопознание в кругу человеческих занятий так важно, что не осталось делом только практического наблюдения человека над самим собой, но, с течением времени, явилось также мерой изучения вообще человеческой природы, подобно тому, как могут быть изучаемы предметы, например, царства растительного или животного. В этом предлежательном своем направлении оно получило уже характер теоретический и вошло в энциклопедию наук под именем Психологии. Такое теоретическое познание человека, как и всякая теория, долженствовала состоять в обобщении фактов опыта, замеченных самопознанием практическим и замечаемых постоянно, всегда и во всех.
Явно, что если бы сила обобщения в человеческой природе имела одну и ту же энергию во все времена и в каждом потомке Адамовом, то теоретическому самопознанию следовало бы переходить из века в век, все с большей и большей полнотой содержания, и постепенно приближаться к своему совершенству. Но, к несчастью человеческого рода, это начало обобщающее – этот бессмертный дух человека в различные времена, является на различных точках стояний, и как будто имеет какие-то фазы. В иное время он восходит, по-видимому, к зениту своей орбиты, – и человеческая природа в недре гражданских обществ становится
светлее, утешительнее, отраднее: на поприще жизни выступают умы сильные, волидобрые, сердца любящие, и самопознание таких душ видит в них самих область неизмеримую, богатство фактов нравственной жизни неисчерпаемое, – видит, как в душе соединяется конечное с бесконечным, условное с безусловным, как человек велик и вместе мал, силен и вместе слаб, как внятен его природе голос Существа Высочайшего, и как, злоупотреблением своей свободы, может он заглушать его; как выражается в нём образ жизни ангельской, и как легко ему ниспадать до безумия скотов несмысленных. Обширна и поучительна история человеческого существа, начертываемая в эти счастливые эпохи жизни духовной, когда помыслы земные, развиваясь свободно и стройно, сближаются с истиной небесной! Но бывают времена и нравственной тьмы, в которые бессмертный наш дух, как будто уходит к своему надиру [4] и только слабым мерцанием озаряет блуждающие во мраке человеческие общества. В эти печальные периоды жизни, люди как-то мельчают и уравниваются, – конечно потому, что впотьмах все равны, – горизонт умственного зрения их становится теснее, понятия о добре и зле приходят в колебание и ослабляются разнообразием земных отношений; чувство любви вянет как цветок, удаленный от живительного влияния лучей солнечных, и поддерживается только искусственной теплотой житейских расчетов и интересов. Находясь вдали от источника света и озаряясь слабым его мерцанием, человек это мерцание почитает светом и называет его умом, гением, мудростью. А так как среди своего полумрака он не может видеть ничего кроме земли и ничем кроме чувств; то близорукий его ум направляется только к земле, и всю свою деятельность развивает только в горизонте чувственных органов. Здесь сосредотачиваются все виды, все надежды человека; а там, далее – откуда на следующее утро жизни должно взойти Солнце правды, – там... – но этот вопрос или не возбуждается, или, как-нибудь возбужденный, туманит душу таким же неприятным чувством, какое мы испытываем, когда неожиданно приходит к нам неприятный гость. Нет ничего удивительного, что ум, сосредоточив всю свою деятельность вне себя – в пределах земли, по самой этой сосредоточенности, может производить многое и удивительное в отношении к земле – к тому что вне его. Но, в это же самое время, душа человека бывает так омрачена, что, входя в себя и стараясь изучить свою природу, он находит её тесной, темной и не представляющей никаких фактов, достойных познания, – он не видит в ней той самой причины, по которой что-нибудь видит; следовательно, не только не решает основных вопросов самопознания, но и отвергает самую возможность их. Эту бедную, омраченную, загрязненную всяким житейским хламом душу, он сам тогда отождествляет с душой бессловесного животного и отличает её только сознанием своего эгоистического Я, не испытывая, откуда это сознание? по каким законам оно озаряет деятельность души? и объясняется ли им причина происхождения наших стремлений в бесконечность, которой мы не понимаем и никогда не поймем, и которой однако же необходимо требуем. От науки самопознания, в этом случае, желает он не того, чтобы она возводила его мысль на высоту идеального созерцания вечной истины и высочайшего блага, следов чего в своей природе ему, к несчастью, замечать не случалось: он хотел бы, чтоб эта наука облагородила его страсти, узаконила порочные его наклонности, разнуздала его волю, обезусловила его ум, – вообще приноравливалась исключительно к стремлениям и выгодам внешней его жизни. При этом направлении человека, теоретическое самопознание естественно стесняется в своих пределах и получает характер материалистический, пока совсем не изгонится из энциклопедии наук, как учение, не представляющее никаких материальных интересов. Вековые же наблюдения над душой человека, запечатленные умами великих философов в лучшие эпохи исторической жизни народов, и оправданные авторитетом христианской веры, для людей, ходящих в нравственной тьме и ничего не видящих, кроме предметов чувственных, кажутся мечтой рутинеров.Итак, теоретическое самопознание в своем ходе никогда не следует закону постепенного развития, но всегда служит выражением нравственного состояния того народа, в котором появляется и того времени, когда происходит. Смотря по духу века и по направлению нравственной жизни известного общества, либо даже частного исследователя человеческой природы, оно бывает то обширнее, то теснее, – открывает в недре души то более фактов, то менее, и сообщает науке то духовный характер, то материальный. За упадком народной нравственности обыкновенно следует упадок и самопознания; а когда первая становится чище и возвышеннее, улучшается и облагораживается также последнее. И здесь-то скрывается причина случающейся иногда странной борьбы мнений о человеческой природе, в одно и тоже время, в одном и том же обществе, – такой борьбы, которая нередко оканчивается торжеством заблуждения и попранием истины. Представим себе общество на довольно высокой степени нравственного растления: само собой разумеется, что взгляд его на человеческую природу будет тогда груб и материален; и как скоро является ум, сообщающий психическому материализму сколько-нибудь правильную, логическую форму и через то доставляющий ему подобие истины, – его система провозглашается современной и увенчивается похвалами, как произведение превосходное, вполне удовлетворяющее требованиям прогресса, который однако же в другом обществе, или в другое время вероятно поразил бы всех ужасом. Но мы без сомнения согласимся, что упадок нравственной жизни в народе, равно как и улучшение её совершаются постепенно. Поэтому и в первом случае, как в последнем, могут быть люди отсталые, такие люди, которые по глубокости своих убеждений, не спешат, или даже вовсе не хотят увлекаться потоком современных заблуждений, и крепко держатся чистоты психологических своих понятий. Явно, что современные прогрессисты будут смотреть на них с презрением и назовут их рутинерами. А если, в числе таких рутинеров, является ум сильный, характер непоколебимый, и вздумает своими началами, будто оплотом, остановить поток вредных и гибельных мнений; то оплот его будет сорван – иногда вместе с его жизнью, и высокие его идеи сокроются в пыли библиотек до времен более благоприятных, как драгоценный подарок поколениям позднейшим. Кто откажет в удивлении великим гениям? Но и гении бывают признаваемы, являясь только вовремя и при благоприятных обстоятельствах. Сократ не умер бы в темнице, если бы был гражданином Лакедемона
[5]; Лютер не основал бы религиозного общества, если бы воспитывался и жил в недре православной Церкви; Кант не положил бы начало философского рационализма, если бы философствовал в шестнадцатом столетии.Но когда и гении подчиняются духу времени и в известной степени бывают рабами обстоятельств; то по каким признакам можно судить сколько о самостоятельности, столько же и о правильном развитии теоретического самопознания в деятельности умов обыкновенных? Естественных признаков, для отличения истины от заблуждения на этом важнейшем поприще, конечно не много; но они есть. Коперник, построяя теорию солнечной системы, всю надежду своего построения основывал на предположении: не могут ли начертанными им законами движения небесных тел быть объяснены все явления звездного неба и решены все вопросы, неразрешимые по началам прежних космологических построений? С того времени, предначертание Коперника сделалось предметом поверок, и действительно доныне оправдывается астрономическими наблюдениями; предположение его вошло в ряд истин, почти несомненных, и система его устоялась. Что же? Не таким ли образом построяется и теория душевной нашей жизни? Не есть ли это также космос, в котором психолог должен открыть постоянные законы движения его сил и созерцать его как одно стройное целое? Этот космос, – область сознания; обращенного к внутренней стороне человеческой природы, смотря по чистоте души, более или менее богат нравственными явлениями, как небо, смотря по состоянию атмосферы, более или менее богато звездами. Поэтому все дело самопознания должно состоять только в том, чтобы оценить относительную важность пробуждающихся в ней явлений, не принимая центрального за периферическое, а периферического за центральное, поставлять их в естественную связь и зависимость одни от других, и, определив через то законы и цели их деятельности, выводить отсюда заключения о достоинстве и значении нравственной жизни человека, во всех её формах, и решать возникающие в ней стремления, требования, побуждения и противоречия. Если все это решается легко и подтверждается многочисленными опытами, можно смело сказать, что ход и законы теории самопознания верны. Характеризуясь строго систематическим развитием, самопознание может допускать погрешности и заблуждения только от двух причин: во-первых, от недальновидности взгляда; во-вторых, от туманной атмосферы той области, которую оно должно рассматривать.
Никакое теоретическое самопознание не может похвалиться столь великой остротой и обширностью зрения, чтобы в состоянии было проникнуть до глубины человеческого духа и проследить все излучистые пути его хождения. И самый светлый взгляд человека необходимо тускнеет и теряется в неразгаданных тайниках его природы, – преимущественно же там, где тварность её обнаруживает в себе отпечаток совершенств Творческих, где конечное в ней почерпает силу стремления к бесконечному. Приближаясь мыслью к этим таинственным сторонам души, самопознание легко может делать о них заключения неверные и впадать в заблуждения ужасные, – особенно, когда упускает из виду ту великую истину, что неизбежные условия всякой нашей деятельности на земле суть пространство и время
[6]; а законы пространственных и временных отношений никак не могут быть приложимы к уразумению того, что, само в себе, бесформенно и существует под иными условиями. Но чем же в таком случае оно пособит себе, если все, о чем бы человек ни мыслил, может мыслить только под формами? Астрономы, чтобы возвысить силу органического зрения и доставить ему возможность видеть предметы за пределами планетного его горизонта, придумали телескопы. Нет ли подобного орудия и для возвышения силы зрения нравственного, когда оно влечется к созерцанию предметов за пределами горизонта, описываемого сознанием? Без сомнения, есть; только это орудие не подобное, а инородное, не чувственное, а духовное, не искусственное, а благодатное; это – око души просветленной верой, которая дивно возвышает силу сознания и обличает пред ним существо вещей невидимых. При свете сего Божественного фароса [7], наука самопознания никогда не уклонится от истины и, сколько можно человеку видеть, увидит и разгадает тайны душевной жизни; ибо, в этом случае, человек будет измерять себя не самим собой, а бесконечным умом Того, которым существует и движется.Другая, ещё
более опасная, причина возможных в области теоретического самопознания заблуждений есть, как мы сказали, туманная атмосфера душевной жизни. Под этим выражением хотелось бы нам разуметь нечто более того, что заключается в нём с первого взгляда. Есть люди, которых сознание бывает постоянно обращено только на внешнюю сторону их жизни, внутренняя же нисколько не озаряется им; и этих-то именно людей, а не тех, которые не получили школьного образования, надобно почитать, в собственном смысле, людьми темными. Но тьма – не туман: тьмой означается только отсутствие света; а туман есть воздух, насыщенный испарениями земных тел, и получает обыкновенно такие свойства, каковы предметы, испарениями которых он насыщен. Поэтому в тумане скрываются иногда начала порчи, либо даже разрушения тех или других органических видов. На туман жалуются даже и астрономы, что, сгущая атмосферу, он закрывает он наблюдения звездное небо и посмеивается над силой назначенных для созерцания его естественных и искусственных орудий. Естествознание очень хорошо исследовало как происхождение, так и влияние туманов на природу вещей и успехи человеческой деятельности, и основательно доказывает, что воздух никогда не бывает совершенно свободен от них. Но замечаем ли мы, как освобождаются испарения от нравственных наших поступков, – от предметов, поколику к ним приражаются наши мысли, желания, чувствования? В сфере свободных действий человека есть, конечно, и такие предметы, которые, через приражение к ним душевных его сил, источают стихии живительные и благотворные, как благотворны свет и теплота солнца для земных прозябений. Этими стихиями умеряется, так сказать, атмосфера души и оплодотворяется нравственная её жизнь. Но едва ли не чаще своими действиями поставляется человек в отношение к предметам, наполняющим душу тяжелыми, грубыми и зловредными испарениями, так что ими не только закрывается она от сознания, но и обрекается на нравственную смерть. Этот туман иногда бывает до того густ и непроницаем, что не разгоняется ни блестящим образованием, ни обширной ученостью, – и людей, по-видимому, умных, как мы слыхали, заставляет говорить, что в человеке нет ничего благороднее мозга. Представим же теперь, что эти мозговые люди, эти отуманенные материалисты в жизни и науке, вступили бы на поприще самопознания и объявили себя признанными начертать теорию душевной природы. Какая жалкая была бы эта теория! Какой близорукостью характеризовалось бы это самопознание! Живя только чувством, в чувстве и для чувства, они и самую науку самопознания ограничили бы только пределами животной жизни и развили бы учение о душе скотское. Не видя в себе начал нравственной деятельности, закрытых непроницаемым туманом порочных и страстных стремлений, они и в науке пришли бы к заключению германских рационалистов: “чего не могу я подвесть под формы моего мышления, того и нет”, и никогда не решили бы важнейших вопросов, возбуждаемых духовными требованиями человека, которые всегда есть, которые преследуют его даже на путях крайней оземленелости, и от решения которых он отказаться не в состоянии. Нет, такие исследователи человеческой души прежде должны постараться просветлить для сознания собственную свою душу и очистить её атмосферу от дыхания нечистой жизни, наполняющего её нравственными миазмами, – очистить, по крайней мере, сколько это возможно (ибо и атмосфера души не может быть совершенно свободна от туманов чувственности); а это возможно не иначе, как силой покаянного чувства, которое бы глубоко отзывалось в душе и теплой молитвой перед Богом, в недре Христовой Церкви: сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей [8]? Призываемая таким образом и с готовностью принимаемая благодать Иисуса Христа сама очищает человека и делает его способным к самопознанию.Но где то время, когда в человеке пробуждается это чувство сокрушения о жизни, проведенной без всякой нравственной пользы, когда он возвращается к себе и в состоянии бывает в недре своей жизни заметить мрак, запустение и смрад, чтобы потом ощутить потребность в возможном её очищении? Где это время?
Не уходит человек с площади, пока стоит прекрасная погода. “Зачем идти домой – в скучный и тесный свой угол”, говорит он, “когда на дворе так весело и просторно!” Но вот вдруг, незнать откуда, налетела буря, заблистали молнии, раздались удары грома, полились целые реки дождя, – и он поспешно идёт домой – увы! Как поздно! Полуразвалившаяся хижина нисколько не защищает его от порывов ветра и потоков дождя. “Почему бы мне”, думает он, “во время хорошей погоды не посидеть дома и не заняться исправлением своей хижины? Теперь – в часы непогоды – приют совершенно успокоил бы меня”. Такова пора житейских бедствий. Она заставляет нас невольно обращаться к себе и, напоминая нам, что мы не положили в своей душе никаких оснований для утешения и ободрения себя
, нередко повергает нас в отчаяние.Не уходит человек с площади, пока ясно светит солнце и до ночного мрака ещё
далеко. Но вот земной светильник меркнет, тьма скрывает от глаз все формы вещей, доставлявших ему удовольствие, сырость вечернего воздуха начинает проникать его тело, – и он спешит под кров своей хижины; – увы! Опять поздно! В ней нет ни света, ни теплоты, – в ней мрак ужаснее того, от которого он ушел, и холод в ней – холод могильный. “Почему было”, думает он, “не возвратиться мне домой ранее, чтобы осветить и обогреть свою хижину? Теперь не страшился бы я мрачной и холодной ночи, и уснул бы спокойно с надеждой, что завтра встану здоров и весел”. Такова пора смерти. Она тоже заставляет нас обратиться к себе. Но если в продолжение жизни, мы, по невнимательности к внутренней своей природе, не прояснили для себя тех благотворных её начал, которые не знают смерти и не подлежат её законам: то это обращение наше бесконечно ужаснее, чем шествие преступника на смертную казнь.1. Аристипп (ок. 435 – 355 гг. до Р. Х.) – древнегреческий философ, уроженец Кирены (город в северной Африке); прибыв в Афины, стал учеником Сократа, а по возвращении на родину основал т.н. “киренскую школу”, приверженцы которой полагали целью жизни “наслаждение”, понимаемое в смысле душевного спокойствия, блаженства и т.п.
2. Слова Сократа из платоновского диалога “Федр” (230а); Тифон – стоглавое чудовище, сын Геи (Земли), побежденный Зевсом.
3. Имеется в виду диалог “Алкивиад II” (150е), чья принадлежность Платону не является, однако, бесспорной.
4. Надир – точка небесной сферы, находящаяся под горизонтом и противоположная зениту.
5. Лакедемон – город Спарты, от которого последняя получила название, имевшее в античности официальный оттенок (поэтому у Карпова – “гражданин Лакедемона”.
6. Здесь автор явно имеет в виду учение Канта о пространстве и времени как необходимых формах человеческого опыта (и “теоретического разума”). Однако в работе “Философский рационализм новейшего времени” (Христианское чтение, 1860), В.Н. Карпов отвергает представление о том, что “человек есть существо...закупоренное в чистые формы пространства и времени”.
7. Фарос – т.е. маяк; от названия острова Фарос вблизи Александрии, где был сооружен (в начале третьего века до Р. Х.) маяк высотой около 110 м.; разрушен в результате землетрясения в 1326 г.
8. Псалом 50:12.
1 Статья печатается по изданию: "Странник, духовный учёно-литературный журнал" (1860 г., т.1, отд. 2, c. 17-34) с сохранением особенностей авторской пунктуации.
В апреле 1998 года исполняется 200 лет со дня рождения Василия Николаевича Карпова (2/13.4.1798 - 3/15.12.1867), мыслителя, которого можно с полным правом причислить к строителям русской философии, заложившим её теоретический фундамент – тем, кто осуществлял “программу-минимум”, без решения которой любая “программа-максимум” остается только красивой утопией. Возможно, такие мыслители не слишком интересны дилетантам, обеспокоенным, как правило, только знанием “последнего слова” (которое далеко не всегда оказывается лучшим и самым глубоким). Но, казалось бы, профессиональных философов, тем более – историков русской философии, мыслители типа В.Н. Карпова должны интересовать в первую очередь. Увы, если судить по заметке о Карпове в энциклопедическом словаре “Русская философия” (Москва, “Наука”, 1995г.), работ, посвященных его творчеству, в литературе последних лет не отмечено. А ведь сегодня нам крайне полезно и даже необходимо вернуться именно к истокам – так как философскую культуру в современной России надо отстраивать по сути дела заново. Конечно, цель данного послесловия предельно скромная: только отметить главное в философском наследии В.Н. Карпова, а заодно бросить взгляд на далеко не ординарную личность этого ординарного профессора философии, трудившегося всю вторую половину жизни (с 1833 года) в Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Неординарность личности В.Н. Карпова проявилась хотя бы в том, что одним из его близких друзей был Виктор Ипатьевич Аскоченский, тоже уроженец Воронежа, окончивший там вместе с Василием Николаевичем местную духовную семинарию. Аскоченского принято изображать крайним мракобесом и клерикалом, “слепо ненавидевшим” все, связанное с европейской культурой и тем более – философией. Но подобное представление рассеивает хотя бы некролог, написанный Аскоченским и помещенный в его журнале “Домашняя Беседа” (1867г., в.52, с.1272-1278), где он дает трудам своего покойного друга – трудам, связанным, в первую очередь, с европейской философией, от античности до германского идеализма, – самую высокую оценку. Конечно, выражается Аскоченский порою весьма колоритно, говоря, например, так: “Как Данте – Вергилия, так и Карпов взял Платона своим чичероне... во всё своё долгое странствование по ущельям дантовского ада современной философии”. Ну так что же - одним из философских подвигов В.Н. Карпова действительно был перевод на русский язык основного корпуса трудов Платона, выполненный и изданный на свой счет (только post factum эта работа была вознаграждена материально по специальному императорскому указу). Подчеркивает Аскоченский и то обстоятельство, что переход Карпова из Киевской Духовной Академии (где он долгое время был вынужден преподавать иностранные языки в скромном звании бакалавра) в Санкт-Петербург, с получением должности профессора, произошёл по инициативе московского митрополита Филарета, далекого от всякого “мракобесия”. С глубоким сочувствием (пусть и приправленным дружеской улыбкой) отмечается в некрологе и свойственная Карпову ещё с семинарской скамьи самостоятельность суждений, отсутствие какой-либо “робости в мыслях” – так, ещё на выпускных экзаменах Василий Карпов бесстрашно “сразился”, защищая ценность философии, с видным иерархом Церкви (что и послужило одной из причин медленного продвижения Карпова “по служебной лестнице”). И уж совсем показательны последние слова некролога – слова о том, что останки В.Н. Карпова нашли упокоение “на том кладбище, на котором лежат драгоценные останки Ломоносова, Карамзина и Сперанского”. Мог ли человек, написавший эту фразу – связавшую его друга с русскими людьми, которые умели усваивать всё лучшее в европейской культуре, – быть тем безнадежным “ретроградом”, каким его считают до сих пор не только завзятые либералы?
Взгляд на В.Н. Карпова глазами В.И. Аскоченского мы использовали неслучайно. «Отражение» личности первого в памяти второго интересно и поучительно не только своим содержанием, относящимся к Карпову. По-настоящему светлая личность освещает и тех, кто хранит о ней благодарную память; свет такой личности выводит из некой “темной области” их самих – даже если они попали туда отчасти и по собственной вине. Увлеченный борьбой с “духом времени”, Аскоченский, как оказалось, умел ценить и тех, кто вел эту борьбу существенно иначе, чем он сам; кто стремился не столько отвергать “дух времени” in toto, сколько освобождать из его плена действительно ценные духовные содержания.
И здесь пора сказать несколько слов о собственно философских воззрениях В.Н. Карпова. Сводить их просто к русской рецепции “платонизма”, конечно, недостаточно, а по сути и неверно. Правда, Василий Карпов действительно глубоко ценил и удивительно тонко понимал Платона – осмелюсь даже утверждать, что его комментарии к ряду платоновских диалогов содержательней и глубже известных комментариев А.Ф. Лосева (в которых последний постоянно использовал, в качестве “ключа к Платону”, бывшее некоторое время весьма модным понятие “модели”, скорее научно-методологическое, чем фундаментально философское). В глазах Карпова “Платон пережил как бы все века, сочетал в своем созерцании стремления всех умов и сердец, и разрозненное, разнохарактерное высказал в одной гармонически сложенной поэме”. Но из этой “поэмы” Карпов счел необходимым выделить главную мысль; притом не просто выделить, но раскрыть в понятиях, которые выработала уже не античность, а философия Нового времени, философия, которая, при всех своих недостатках, возникла в связи с христианством и на почве христианства. Это – мысль о том, что “первая наука в системе философии есть наука самопознания, или субъект в среде мыслимого”, как подчёркивал Карпов в книге “Введение в философию” (с.123), которая появилась ещё в 1840 году и стала одним из самых серьёзных свидетельств рождения в России настоящей теоретической философии. Характерно, что уже здесь Карпов задумывается о задачах русской философии как таковой, высказывая при этом следующее знаменательное суждение: “Философия отечественная, оригинальная, должна иметь в виду определение места, значения и отношений человека в мире, поколику человек, сам в себе всегда и везде одинаковый, в развитии охарактеризован типом истинно русской жизни; и, раскрыв требования его природы, прояснить ему его обязанности по отношению к отечеству и религии” (с.117). Не буду сейчас комментировать эти слова (к ним я ещё вернусь в книге “Трагедия русской философии”, публикация которой начинается в этом номере “РС”). Отмечу только, что они задали подлинный путь русской философии – путь русского человека к самому себе, во всей полноте своих существенных определений, в том числе и определения национального. Это понял (или, по крайней мере, угадал) В.И. Аскоченский – и потому В.Н. Карпов остался в его глазах истинно русским мыслителем, несмотря на многочисленные отзвуки в его трудах идей Декарта, Канта, Гегеля и других.
Мысль В.Н. Карпова о том значении, которое имеет самопознание человека, ярко и убедительно раскрывается в статье, с которой только что познакомился читатель. Следует, конечно, иметь в виду, что, публикуя эту статью в духовном журнале “Странник” (1860 г., т.1, отд. II, с.17-34), Карпов стремился не столько рассмотреть собственно философские проблемы самопознания, сколько показать его необходимость с точки зрения христианства. Впрочем, ещё во “Введении в философию” Карпов отмечал ту связь сознания и совести, которая определяет религиозно-нравственное значение самопознания, запрещает человеку “бежать от самого себя” (к сожалению, такое бегство и до сих пор слишком часто выдается за некий императив Православия). Естественно, что отдельные суждения В.Н. Карпова были существенно углублены в ходе дальнейшего развития русской философии – ведь в его трудах мы имеем дело с её первыми шагами. Но ещё важнее понимать и то, что сегодня мы, к сожалению, находимся куда ближе к надиру, чем к зениту ясного и глубокого самосознания. А потому для нас творчество Василия Николаевича Карпова - это не просто «голос минувшего», но призыв домой, к первоисточнику духа, скрытому в глубине нашей души.
Николай Ильин