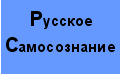в Русском философском обществе
Борис Адрианов
Художество и философия
Александр Сергеевич Пушкин – удивительная фигура нашей культуры. Единодушно его признание всеми глубокими умами, большими художниками России почти в течение двух столетий. “Солнце нашей Поэзии закатилось!” писал А.А. Краевский сразу после гибели поэта. “Учитель России”- В.А. Жуковский. “Пушкин – наше все” – Ап. Григорьев. “Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет” – от лица всех нас сказал Ф.И. Тютчев. А вот высказывания И.А. Ильина: “Пушкин явил в себе победное цветение содержательной и субстанциональной русскости”; “Он был послан для того, чтобы оформить душу русского человека, а вместе с тем и России”; “Все, что он создал прекрасного, вошло в самую сущность русской души и живет в каждом из нас”. Глубокий знаток русской культуры И.А. Андреевский отмечал: “Пушкин – творец русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы, которую он поднял так высоко, что она заняла первое место в мире. Пушкин завершил в русской литературе все ценное до него, породил все ценное после него”.
Удивительно плодотворным оказывалось обращение к творчеству и личности Пушкина для русских писателей, художников, мыслителей (Достоевского, Кипренского, Ивана Аксакова и многих других). На тексты Пушкина написаны лучшие русские оперы, романсы, балеты (лучшие и вообще, и в творчестве даже не очень значительных композиторов). Даже экранизации его произведений, как правило, входили в “золотой фонд” отечественного киноискусства.
Какова причина всего этого? Гениальность, редкий талант – скажут многие. Но были и другие таланты, однако ни о ком нет такого восторженного единодушия. Н.В. Гоголь ответил так: “Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, – что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости ото всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт ... то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине”. Добавлю от себя только одно: Пушкин до конца состоявшийся поэт. Что это значит, я попробую раскрыть дальше, выступив в роли “душевного анатомика” по Гоголю.
Величие и даже значительность художника всегда связаны с глубиной, широтой и ясностью понимания человека, его сущности в первую очередь. Утверждение, что мировоззрение писателя мало что значит для его творчества, в корне неверно. Явное измельчание современной литературы напрямую связано с поверхностным, убогим и часто даже чисто “отрицательным” мировоззрением художника (атеизмом, аморализмом, национальным нигилизмом). В то же время абсолютно неправомерно считать писателя, художника или поэта мыслителем в первичном значении этого слова и помещать его наравне с философами в антологиях и очерках по истории философии (как это делает, например В.В. Зеньковский). Художник всегда творит в рамках философской парадигмы, усвоенной им от кого-то другого, парадигмы, которая и определяет метафизическое или философское пространство его творчества, выбраться из которого художнику чрезвычайно трудно. Например, Л.Н. Толстой так и не вышел полностью из руссоизма, М.А. Булгаков из своеобразного арианства.
При всем разнообразии философских учений о человеке, можно выделить группу определенных идей, воззрений, мифологических представлений, личностных категорий, без которых творец никогда не достигнет подлинного величия, каким бы талантом он ни обладал.
Первое, без чего талант никогда не состоится, это дух свободы
.И долго буду тем любезен
я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Художник должен быть всегда внутренне независим ото всего в мире, кроме своего таланта, как дара, полученного им от Бога. Эта свобода может увести от службы, карьеры – увести иногда даже слишком далеко (Льва Толстого – от церкви и государства), привести в масонские ложи (Пушкин, Ап. Григорьев), революционные кружки и сообщества (Достоевский, Николай Данилевский), в диссиденты (Солженицын). Но “перебор” не так вредит творчеству как “недобор”. Ибо только дух свободы пробуждает в человеке многие лучшие черты, которые абсолютно необходимы большому таланту: личное достоинство и благородство, мужество и даже героизм, способность к юродству, глубокую воодушевленность и самоотверженность, даже жертвенность в служении своему призванию, и многое другое, без чего художнику никогда не реализовать свой талант в полноте. Из всего перечисленного коснусь только одного момента, для кого-то, возможно, спорного, но для меня сейчас наиважнейшего. Художник как человек всегда героичен. Он не просто должен мужественно принимать любой вызов, он должен идти в самые опасные места, точнее, его туда притягивает какая-то особая сила, и он не должен ей противиться и угашать в себе этот геройский дух, а даже напротив – должен возбуждать его в себе и в других людях. Только тогда он будет испытывать особый род одушевления и не колеблясь принимать вызовы судьбы, отличая что от Бога, а что от людей.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья -
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив, кто среди волненья
Их обрести и ведать мог.
И тут же приходят на память и стихи другого поэта:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Как же далеки от этого состояния души большинство художников нашего времени! Уныние, безнадежность, стенания и даже тоска по “золотому” коммунистическому веку. Какое там счастье, хотя “минуты” , которые сейчас переживает Россия, действительно роковые, минуты в историческом измерении. А если кто и готов к борьбе с чумою, то смутно понимает, в чем ее сущность.
“Чума” всегда живет вместе с нами, как живет дьявол, сатана или соблазнитель. Мы можем не замечать ее, и тогда ее вроде бы и нет, как и дьявола. Но каждый человек, тем более художник, должен не только знать о ее существовании, но и видеть ее конкретное лицо или, точнее, ее “лица” или, если еще точнее, “личины”. Сегодня мы увидим их, если открыто объявим себя националистами и станем ими на самом деле, в своем призвании, в жизни, быту, причем именно националистами, а не патриотами, государственниками, христианами. Хотя совсем недавно, каких-то несколько десятков лет назад, для этого нужно было быть открыто верующими, потом, совсем уже недавно, государственниками, а “вчера” наступило время патриотов. Но сегодня только национализм есть реальная, положительная и действенная антитеза духу уныния, безысходности, смятения. Только верность народному духу может дать нам то особое упоение в поединке с чумой, о котором писал Пушкин.
Второе условие “состоятельности” художника (да и философа) – это идеализм как основная мировоззренческая установка. Именно отсюда проистекает отношение к поэзии как к высшей цели и высшей ценности в подлунном мире, проистекает благоговение перед красотой как таковой (в философии – перед истиной).
“
Благоговея богомольно перед святыней красоты” – не мог такое написать Некрасов, да и Вл. Соловьев, для которого “красота есть только ощутительная форма добра и истины”. К.С. Станиславский выразил этот идеализм словами: “любите искусство в себе, а не себя в искусстве”. Из идеализма Пушкина проистекало отнюдь не символическое или абстрактно-аллегорическое отношение к музам, а понимание творчества как “пения для муз и для души”, обретение той особой отрешенности от всего земного, которая выражается прежде всего в особом внутреннем восторге, потенциально существующем в душе каждого человека, но легко воспламеняющемся именно у идеалистов; такой восторг и позволяет находить высокие и в то же время чрезвычайно простые слова, без которых нет высокой или подлинной поэзии.
“И грянул бой, Полтавский бой” или “И се – равнину оглашая Далече
грянуло ура: Полки увидели Петра.” Было ли так на самом деле? Конечно, нет, но в каком-то высочайшем смысле было именно так. Вот она, высшая правда искусства, названная Пушкиным, может быть не совсем удачно, “нас возвышающий обман”.Только идеализм дает художнику ощущение присутствия особого художественного мира, без чего художник никогда не состоится, а останется публицистом, мифологом, стихотворцем, “шаманом”, словом, кем угодно, но только не поэтом. Это очень хорошо выразил Николай Заболоцкий в последний период творчества:
Два мира есть у человека:
Один – который нас творил,
Другой – который, мы от века
Творим по мере наших сил.
Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незримым взором провожала
Природу внешнюю она.
Это состояние внутренней возвышенности или своей причастности к этому второму миру и должен благоговейно сохранять в себе каждый художник, причем любой ценой. Отсюда “нестандартная” жизнь, обвинения в лености или в других грехах, ибо сохранить этот настрой души чрезвычайно трудно. Но через него нисходит в душу “успокоение” у Николая Рубцова:
Когда душе моей
Сойдет успокоенье
С высоких, после гроз,
Немеркнущих небес...
- либо глубочайшая проникновенность у Сергея Есенина, либо еще что-то глубоко человечное и чрезвычайно нужное в “железный”, а теперь уже и в атомный век. То, через что мы, читатели, возвращаемся в свою человеческую сущность, “как в родной дом”, и приучаемся самостоятельно побеждать неизбежный “жизни холод”:
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел.
Из идеализма проистекало у Пушкина и особое понимание не только предмета, но и цели художества:
Я здесь от суетных оков освобожденный
Учуся в истине блаженство находить
или
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Однако одного идеализма для величия поэта недостаточно. Родоначальник идеализма Платон даже считал нужным изгнать поэтов из своего “идеального государства”, неслучайно построенного по принципу строгого разделения функций, или кастовости, сословности. А.С. Пушкин сумел преодолеть барьер сословности и стать подлинно национальным поэтом. Вырасти из своего класса, сословия, “интеллигентности”, “местечковости”, “академичности”, или, напротив, “модернизма” вообще чрезвычайно трудно. Удается это только тем, кто развил у себя мистику сердца. Когда я говорю о мистике, то имею в виду не те или иные мистические состояния перехода в иные миры, не культивирование “иррационального” любой ценой, “шаманизм” или разного рода формы мистического бреда, а прежде всего основополагающие состояния сердца, или элементарные аскетические добродетели, те главные слагаемые мистической жизни, которые есть у каждого человека и в особенности у русского человека. Это память Божия и связанное с нею памятование смерти:
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охлажденный прах?
Правильные мысли о смерти внушают поэту не уныние, а благожелательное отношение ко всем людям, отношение, снимающее все социальные, гражданские, имущественные и прочие различия и разделения, и что не менее важно, внушают примирение со своим жребием, готовность безропотно нести свой крест. Отсюда и сознание Пушкиным своей греховности, не позволяющее винить во всех своих бедах других. Далее, это трезвенность и бесстрастие, не позволяющие стать только выразителем социальной или гражданской скорби, всецело служить власти или народу.
Зависеть от властей, зависеть от народа -
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
Наконец, это особая сила безмолвия, или способность отрешиться абсолютно ото всего и полностью отдаться поэзии:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел...
Бежит он, дикий и суровый
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
Из аскетического мироощущения рождается у человека чувство святости и особое благоговение перед жизнью, без чего в ранг святости возводятся прогресс, цивилизация, партии и прочее, и поэт перестает быть выразителем национального духа.
Таким образом Пушкин как поэт реализовал в себе триединство воли, души и сердца или, говоря более точным языком, личности, сущности и жизненности, что не удалось в полноте многим большим талантам, почему они и не стали великими для нас.
В заключение скажу следующее и уже не юбилейное. Да, Пушкин величайший русский поэт, но нельзя о нем говорить, что он “наше все”. Да, он лучший камертон из поэтов XIX века, настраивающий нашу душу на русский лад; да, обращение к его творчеству всегда чрезвычайно благотворно для всех и в особенности для деятелей искусства и литературы; да, отношение к нему выявляет суть человека. Но жизнь, в том числе и художественная, не может “останавливаться”, любая остановка – это смерть. Любовь к Пушкину не должна отвращать нас от поиска новых поэтов; разбуженное Пушкиным, наше воображение обязательно должно искать, находить и ценить тех, кто, продолжив русское художественное слово, придал ему новое качество. Русская поэзия будет жить и в XXI веке, если поэты не откажутся от полноты человеческого в себе, примут вызов очередной “чумы”, будут служить Поэзии и раскрывать, не взирая ни на что, все лучшее в русском человеке.