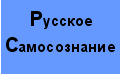Пушкинские чтения
в Русском философском обществе
Светлана Флегонтова
Космос А.С. Пушкина
Космос А.С. Пушкина – одна из неисследованных тем его творчества, а между тем она позволяет более четко определить контуры русской духовности, запечатленные поэтом и затем как бы эстафетно переданные всей русской литературе. Анализ этой темы позволяет также рассмотреть более отчетливо особенности иной духовности, вдохновлявшей философское творчество П.Я. Чаадаева, да и целую философскую традицию, которая шла по его следам (Вл. Соловьев, софиология, философия всеединства). Подобный анализ позволяет увидеть то, как разошлись пути русской литературы и “религиозной философии”, поставить вопрос о природе “религиозно-философской” духовности, которая не консолидировала, а раскалывала русский дух.
Философия пушкинского космоса наиболее ярко выражена в стихотворении “Пророк”, написанном в 1826 году по дороге из Михайловского в Москву (поэт возвращался из ссылки). 10 сентября 1826 года на квартире Соболевского Пушкин читает “Бориса Годунова”. Среди слушателей его был и Чаадаев. Пушкин и Чаадаев встретились после шести с половиной лет разлуки. Затем Чаадаев работает над “Философическими письмами”, которые оказали определяющее влияние на развитие “религиозной философии” в России.
В 1829 году Чаадаев заканчивает свой философский труд и посылает Пушкину письмо, которое дышит уверенностью в обретении истины. По праву дружбы он стремится посвятить поэта в эту истину. По мнению Чаадаева, Пушкин идет не тем путем, “не понимает свой век и свое призвание”, “не хочет учиться тому, что происходит на божьем свете”. В письме прочитывается желание Чаадаева сделать Пушкина рупором своих идей, по сути – лишить его права на самостоятельное мышление (“ведь не мысль делает человека поэтом”). Но Пушкин не отвечает ни на это, ни на другие письма Чаадаева, взывающего к нему: “Отклик! Найду ли я его в вашей душе?”. Духовные пути друзей разошлись, и “болдинская осень” 1830 года в значительной степени отражает и выражает “самостоянье” русского поэта, его противостояние тому духу, которому предал душу свою Чаадаев (эта драма духовного разрыва исследована А.Н. Тарасовым в его книге “Чаадаев” – М., 1986 г.).
Идеи Чаадаева о всеединстве (“Да будут все едино”), о христианизации социальной жизни (“христианское дело”) и др. будут затем развиты Вл. Соловьевым. Однако в философии Чаадаева ярче и откровеннее, как у всякого творческого “первопроходца”, высказана та идея человека, которая легла в основу его системы. Антропология Чаадаева – это философия отрицания пагубного Я (“личное начало разобщает”, “предоставленный самому себе человек всегда шел по пути беспредельного падения”), отрицания свободы ( свобода – “страшная сила”, “в своей свободе мы потрясаем все мироздание”). На этом нехристианском недоверии к человеку, неверии в благие силы его души строится теократический идеал Чаадаева, а затем и Вл. Соловьева, идеал, в котором цель жизни человека – “стать частью великого духовного целого”, “уничтожение личного бытия”, “замена его бытием социальным и безличным”. Уничтожение личного бытия выступает гарантом социальной гармонии – “слияние всех сил в одну мысль и в одно чувство”. Социальное бытие незыблемо, как вечный покой. И таков же космос Чаадаева – упокоенный, механистичный, упорядоченный, в котором все имеет “свою орбиту”.
Иным дышит космос Пушкина. Он дышит жизнью и свободой. Он динамичен и бодр. Он полон стремительного движения. Он органичен. Это в полном смысле слова “живой космос”.
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Интересен образ прозябающей лозы. Слово “прозябать” имеет два значения в русском языке – “расти” и “очень мерзнуть”. Таким образом, внимание поэта, пробужденного серафимом к видению подлинного бытия, приковано не к завершенному и совершенному состоянию мира, но к драме его роста и выстаивания. В этом образе выразились, слившись воедино, и русская теплота заботы о всем, что растет, что претерпевает труды и тяготы роста, и это загадочное, необъяснимое русское бесстрашие перед страданием, свободная и внимательная открытость ему; бесстрашие, за которым стоит, однако, не патологическая любовь к страданию, как это нередко утверждают исследователи “русского духа”, а напротив, огромная любовь к жизни и всему живому, непостижимая сила души, не робеющей перед крестом – перед болью жизни, а иногда и трагедией.
Высшее космическое событие – пробуждение души человека, опаляющий огонь ее роста (“глаголом жги сердца людей”), ее свобода. Только свободное движение пробужденной души ведет человека к Богу и истине. Вера Пушкина в благие силы души и жизни близка святоотеческой православной традиции. Его христианский космос освещал путь русской литературе, насыщая ее духом любви к жизни, духом свободы и веры в человека. К сожалению, иными оказались духовные маяки в философских пространствах. Философская традиция, восходящая к Чаадаеву, замораживала и гасила русскую активность, рассматривая личность как начало дисгармоническое, агрессивно эгоистичное и непродуктивное. Наша современная катастрофа в какой-то мере – расплата и за этот философский тупик.