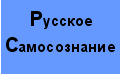П. А. Бакунин
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА
Всё, что есть, всё, что существует, есть в себе самом и по отношению к себе – ведение, знание, разумение себя и другого. Самое знание, или разумение, пребывая внутри, как субъективность, не имеет своего видимого, чувственного образа и есть невидимый дух, или смысл. Но всё другое, о чем ведение ведает, знание знает, разумение разумеет, предстоит смыслу в некотором образе бытия, причём предстоящий образ, в меру ведения, знания или разумения, бывает или поверхностнее, или глубже, то есть или дальше от сущности, или ближе к сущности предмета ведения, знания или разумения.
Объём и глубина знания и разумения всегда соответствуют силе внимания, присущего познающему субъекту – человеку или другому существу, способному знать. Никакое ведение, никакое знание не может состояться без внимания, которое собственно и есть самое разумение (по-немецки «внимать» выражается словом «Vernehmen», от которого произошло и «Vernunft» - «разум» [1]).
Соответственно силе и силою внимания, присущего субъекту, в нём складывается его определенный взгляд на мир, содержание которого, в зависимости от такого взгляда, и предстоит субъекту в некотором образе, с некоторою определённостью, в некоторой связности или сообразности, по степени и силе внимания, которым оное [содержание] воспринимается и соображается.
Некоторым образом, до некоторой степени соображенное мировое содержание именуется людьми реальностью, действительностью, природою или вообще миром.
Сила внимания, как и всякая иная сила, изменяясь по схеме количества, может быть и больше, и меньше. При нисхождении от большей степени внимания к меньшей, когда данная сила внимания и с тем вместе и обладаемое через него знание убывают, очевидно, что и взгляд на мир, или мировоззрение, и самый образ, в каком мировое содержание предстояло такому мировоззрению, не могут пребывать такими же, как они до того были, но необходимо должны изменяться в точном соответствии с убылью в силе внимания, при котором они первоначально сложились.
Насколько убывает сила внимания, настолько же прибывает стихийная сила рассеянности, вследствие чего при меньшей степени внимания и самый образ мира необходимо должен оказаться более рассеянным и менее сообразным; так как множество, при высшем взгляде, усматриваемых связей, соотношений и сообразностей, будет в нем оборвано, вследствие чего обнимаемое им содержание должно будет представляться и более материальным, и менее понятным.
Даже небольшого наблюдения – вполне достаточно, чтоб удостовериться, что сила внимания осуществляется в мире в бесчисленных степенях; каждой из таких степеней внимания соответствует и особое мировоззрение с ему предстоящим особым образом мира.
Уже и люди, при великом различии их способностей, их развития, их эпох, их родины, их пола, их возраста, их среды и всех других особенностей их окружающей обстановки, усматривают мир, или то, что им представляется самою реальностью мира, далеко не одинаковым образом. Их взгляды на мировое содержание, их мировоззрения – различны во всех отношениях, и по отношению к их ширине и глубине, и по отношению к их определенности, ясности или смутности.
А если к тому же принять к соображению ещё и беспредельно-различные мировоззрения, присущие всякого рода животным; а затем – ещё и мировоззрения, свойственные растениям, по роду и виду их; так как несомненно, что они живут и стоят к миру, к внешней их окружающей среде, как субъекты жизни, в особых, только им свойственных отношениях, а потому и ведают в себе свое собственное, растительное мировоззрение; если же затем, – за областью растений, – припоминая учение Лейбница о монадах, принять к соображению ещё и то стихийное основание, на котором возникает жизнь, как растений, так и животных, или ту непроглядную темень так называемого неживого, или неорганического вещества, во всех его сочетаниях, разложениях и различиях, которые, хотя и считаются только механизмом или химизмом, но бесспорно тоже являют своё своеобразное отношение к миру, в котором находятся; – что и давало Лейбницу основание утверждать, что каждая монада существования имеет о мире своё особое представление, или своё мировоззрение [2]; – если принять к соображению с начала до конца весь бесконечно-великий ряд этих умаляющихся степеней мирового внимания, то в соответствие ему, сам собою обозначится столь же бесконечно-великий ряд различных взглядов на мир, или мировоззрений, и им предстоящих различных образов, в которых мир представляется каждому из таких взглядов с постепенно умаляющейся ясностью и столь же постепенно возрастающей смутностью его мировых очертаний.
В последнем, в крайнем пределе убывающей силы внимания, когда оно становится бесконечно-малым, а рассеянность, напротив, – бесконечно-великою, самый взгляд на мир, или мировоззрение, теряется или рассеивается по необходимости в беспредельной смуте; причем и последний образ, в каком мир представляется столь рассеянному взгляду, должен неминуемо и окончательно рассеяться и обратиться в беспредельный, уже ничем не сдерживаемый, безoбразный хаос.
Такой хаос и есть самая стихия материи в ее первоначальном, чистом виде, или, пожалуй, – безусловная объективность бытия, отрешенного вполне от малейшего признака и следа смысла и его субъективности.
Эта материя, в её чистом виде, или самая стихия хаоса, которая мерещится при совершенной рассеянности мысли, как самый объект полнейшего бессмыслия, предполагается обыкновенно естественным началом мира, и есть уже ни полусвет, ни полутьма, но безусловно-непроглядная темень, в которой ровно ничего не видать, потому что в ней нет ничего и нечего видеть.
Мысленно отрешаясь от всякой субъективности, то есть от всякого образа, от всякой формы мышления, И. Кант пришел к представлению о чистой объективности, о чистой сущности, или о чистом бытии, которого никто не мыслит и не может мыслить, которое есть лишь про себя сущее [3], безусловно-немыслимое бытие, и приписал ему всё значение объективно сущей истины.
Усматривая, что такая истина есть лишь крайний предел абстракции, Гегель, приняв оную за точку отправления своей логики, – или за тот предел, в котором мышление начинается, соприкасаясь с стихиею бессмыслия, указывает, что сущность столь стихийного бытия, – чистая материя, или чистая абстракция, – и есть лишь объект полнейшего бессмыслия, совершенная пустота и полнейшее отсутствие как действительной мысли, так и действительного бытия; или лишь такое мышление, при котором ничего иного не остается, как сказать: Sein ist Nichts [4].
В самом деле, безусловное отсутствие всякого образа мышления есть именно стихийный хаос бытия, который находится и существует только в сфере пустого мнения, как ему присущая смута, как его бессмыслие, полагающее своим объектом ни с чем не сообразное, мнимое бытие, которого вовсе нет в действительности.
Между безобразием хаоса и тем образом мира, как оный представляется человеку, находится бесконечный ряд всех других посредствующих взглядов, или мировоззрений, как и столь же бесконечный ряд каждому из них предстоящих и каждым из них различаемых образов мира; в этом ряду находится место и для чистого эмпиризма вещества, и для пантеизма растений, и для чувственного материализма животных и наконец, для высшего идеализма человека
[5].Из общего соображения с одной стороны, бесконечного ряда всех существующих, субъективных взглядов на мир, а с другой, – бесконечного ряда им соответствующих, объективных образов, в каких мир представляется каждому из этих взглядов, вытекает, как необходимое заключение, что мир взирает сам на себя бесчисленными миллионами своих взглядов и сам же усматривает себя в бесчисленных миллионах образов.
Каждый из существующих в мире взглядов осуществляется присущей силою его наличного внимания, при участии той стихийной рассеянности, в которую он погружен самым эмпиризмом своего существования.
А так как объект, предстоящий рассеянности, есть лишь мнимое бытие, или материя бессмыслия, то совершенно понятно, что и каждый из образов мира, предстоящих существующим взглядам, или мировоззрениям, должен быть по необходимости материальным, или преисполненным материей мнимого, стихийного бытия; вследствие чего, каждому из существующих взглядов, при всём их различии, содержание мира всегда представляется в большей или меньшей степени естественно-чувственного или теоретически-отвлеченного материализма, соответственно с тою низшею или высшею степенью, на которой данный взгляд, или данное мировоззрение, находятся в ряду всех прочих взглядов, или мировоззрений.
Степень материализма, в какой представляется образ мира тому или другому взгляду, состоит в прямой зависимости от степени внимания и степени рассеянности, при которых взгляд на мир складывается.
Сила внимания и стихия рассеянности стоят друг к другу и развиваются в обратном отношении, и если первая возрастает на счет второй, то и наоборот, при всякой убыли первой, выигрывает и возрастает вторая.
А так как объект, усматриваемый при внимании, есть всегда некоторый смысл, некоторая сообразность, или некоторое соотношение одного с другим; и напротив, объект, усматриваемый при рассеянности, есть некоторое бессмыслие, – некоторая несообразность одного с другим, или вообще – некоторая материя, то и понятно, что чем слабее внимание, чем больше рассеянность, участвовавшие при сложении данного взгляда, или мировоззрения, тем материальнее, то есть тем несообразнее и непонятнее, тем ближе к хаосу должен представляться и образ им усматриваемого мира; и, наоборот, чем больше сила внимания, чем слабее стихия рассеянности, участвовавшие при сложении данного взгляда, или мировоззрения, тем идеальнее, тем исполненнее смыслом, то есть тем сообразнее и понятнее, тем далее от хаоса, тем ближе к действительности и истине должен представляться и образ им усматриваемого мира.
Из всех существ конечного существования, человек обладает высшею силою внимания; но и человеческое внимание есть высшее только относительно и не есть ещё бесконечно-великое внимание; так как оно и в своём высшем проявлении, всё ещё не избавлено и не свободно от стихии рассеянности.
Нет никакого сомнения в том, что человеческое знание и по объёму, и по глубине, и по ясной определенности, и по многосторонности – несравненно выше и положительнее знания, достигаемого на земле другими существами; но при всём том, оно ещё далеко – не всезнание, а только некоторое знание, при большом невежестве.
А потому, и образ мира, предстоящий человеку, как мировая действительность, которую он знает, слагаясь не только силою его внимания, но и всем бессилием его рассеянности, и будучи не только объектом его действительного знания, но также и объектом его мнимого знания, или его невежества, если с одной стороны, и представляется во всем благообразии стройного космоса, как небесная гармония сфер, как прекрасный Божий мир, исполненный жизнью и красотою, то с другой, – должен по необходимости представляться и совершенно смутным образом, исполненным самым несообразным, вовсе не стройным, вполне непонятным и непроницаемым содержанием материи бессмыслия, рассеянности и невежества, – этой первоначальной стихии хаоса, мнимого бытия, или небытия.
Это другая сторона мира, с которой он предстоит человеку, как непомерная тягость жизни, как страдание, как смерть и обман всех жизненных надежд его, как вполне достаточное основание для развития всякого рода пессимизма, являясь явным бессмыслием и отрицанием всего, что в нем само собою разумеется, как несомненная истина, не может представляться ему иначе, как совершенно непонятною мировою несообразностью и неразрешимым мировым противоречием; так как, по смыслу и на основании смысла и истины, вполне несообразно, чтоб в действительном мире было действительное бессмыслие; согласно с значением смысла, сущность, или действительность бессмыслия есть химера, которой не может быть. А между тем, на взгляд человека, это самая химера царит в мире, и, убивая человека, убивает с ним и его человеческий смысл, утверждающий, что химеры не может быть, что она лишь призрак пустой.
Это противоречие и является человеку явным и неразрешимым противоречием мира.
Но вся сила и всё значение человеческого знания заключаются не столько в его содержании, сколько в критической способности, которой человек в состоянии судить о самой природе и ограниченности своего знания
[6]. Зная очень многое, человек с тем вместе знает о себе, что присущее ему внимание еще далеко – не высший предел всей полноты внимания, – что при более полном внимании, должны необходимо осуществляться и более полное знание, и высшие взгляды на мир; причем мировое содержание, или самая действительность существующего мира должны необходимо представиться в ином образе, более близком к истине: так что, если б человек мог подняться умом с той точки зрения, с которой он нынче взирает на мир, на высшую, – то с неё, без сомнения, очень многое, что нынче смущает его как бессмыслие, разъяснилось бы ему и оказалось согласным с его смыслом.Малые дети усматривают мир и обсуждают его содержание своим детским и ребяческим образом; но того, что они усматривают, никто не принимает за действительную истину; потому что, кто же не знает, что в детях нет ни достаточного внимания, ни достаточного знания для того, чтобы увидеть и познать истину.
Но в этом отношении взрослые, совершенно как дети, усматривают не то, что действительно есть и не так, как оно действительно есть, а лишь что и как они способны усмотреть, по силе им присущего внимания. И разумеется, то, что усматривается при слабом внимании, при ограниченном знании, никак не следует, да и невозможно принимать за истинную действительность, или за действительную истину.
Сила и глубина знания, которым обладает человек, вовсе не в объеме того, что он знает, а существенно – в его критическом смысле, которым он измеряет и судит самую способность своего знания: усматривая его относительность, условность и ограниченность, человек в силу своего критического смысла знает также, что им усматриваемое в мире несообразное содержание, безобразие, зло и бессмыслие, которые так смущают его, не есть действительное, а только мнимое бытие, которое, как объект его невежества, необходимо должно ему мерещиться в виде действительно существующей материи мира до тех пор, пока его невежество не пройдет окончательно и не заменится всезнанием; потому что действительная истина, или истинная действительность открывается в своем образе только при бесконечно-великом внимании, только пред лицом всезнания.
Начиная с низшего и достигая своего высшего проявления на земле, мировая жизнь представляется в виде постепенного, довольно медленно шаг за шагом наступающего пробуждения от глубокого, стихийного сна рассеянности ко вниманию. По сравнению с веществом неорганическим, которое как будто еще спит непробудным сном, следы такого пробуждения, уже заметные в растении, явно видны в животном; но к полноте своего самосознания из всех существ на земле, проснулся только человек; однако и он ещё едва лишь очнулся и, не успев прийти в себя вполне, всё ещё объят туманами стихийного сна и спит наяву. Грезы, призраки и кошмары первобытного стихийного бытия, в виде материи бессмыслия, обступая его, как бывает во сне, всё ещё смущают и наполняют душу его невыразимою смутою; но и в этой смуте своей чувственной стихийности, он сознает уже, что это не действительность, а только сон, – что ему нечего бояться этих призраков; они ему мерещатся, но на самом деле, наяву, их нет; ему стоит лишь проснуться вполне, и они мгновенно исчезнут и пропадут, как пропадают ночные наваждения, когда восходит солнце и наступает день.
Зная о себе, что он не обладает ни всею полнотой внимания, ни всезнанием, человек не может не знать, что и предстоящий ему мир вовсе не такой в действительности и по истине, каким он ему мерещится сквозь смуту его стихийной рассеянности и непроницаемой материи его невежества.
Но большинство людей, совершенно как дети, не в состоянии ни видеть, ни познать истину в её собственном образе; потому что они не обладают для того ни достаточным вниманием, ни достаточным знанием.
Как с одной стороны, вся несообразность хаоса – доступна полнейшему отсутствию внимания, только бесконечно великой рассеянности, какою даже и неорганическое вещество похвалиться не может, так с другой, – самая истина, или действительно сущий образ мира, – понятны и доступны только для налично-присутствующего бесконечно-великого внимания.
Поэты и великие художники способны усматривать истину и отчасти передавать её действительный образ в своих произведениях, именно потому, что они одарены особою силою внимания и могут видеть действительность в её истинном образе, который ускользает незаметным от рассеянного взора людей, не обладающих их даром. Поэтому, произведения поэтов и художников, в которых они переводят самую действительность на язык, или в образы, понятные и доступные всем людям, могут, по всей справедливости, быть признаны за действительное откровение истины.
Но большинству представляется напротив, что в произведении поэзии и художества высказывается вовсе не истина, а только мечта, только идеалы, которые в действительности не находятся. Пользуясь таким заблуждением, мнимые поэты и художники, не усматривая и будучи неспособны усмотреть в действительности ничего кроме банальной пошлости существования, идеализируют её своим воображением, облекают в стихи и образы, и выдают за поэзию и художество.
И хотя пошлость никогда не бывает и не может быть поэзией, как бы её ни поэтизировали, и хотя поэзия не есть ни идеализация, ни пустая мечта столь же пустого воображения, однако большинство людей, не замечая ни своей рассеянности, ни своего невежества, очень легко смешивает то, что они способны видеть и замечать, с тем, что в самом деле есть истина; и когда изредка поэт, художник или природа представляют им истину в её действительном образе, они не распознают черты её, и принимая призраки своей рассеянности и материю своего невежества за настоящую действительность, вынуждены по необходимости самую истину считать пустым призраком, несуществующим идеалом, мечтою воображения поэтов и художников.
Но как бы ни было темно и смутно наверху, невозможно отрицать, что, скрываясь за туманами и облаками, высится ясное, голубое небо и в небесах горит его озаряющее солнце: и также точно, невозможно отрицать, что за всеми призраками рассеянности, за всею теменью и материею невежества, есть действительно сущая, безусловная истина и предвечный живой смысл ее саморазумения, именуемый Богом.
Отрицать действительность истины возможно только силою лжи; отрицать действительность смысла саморазумеющейся истины возможно только при бессмыслии; но во имя и на основании лжи и бессмыслия ничего ни отрицать, ни утверждать невозможно.
Мертвые ничего не утверждают и не отрицают; живые же, отрицая всякую ложь и всякое бессмыслие, утверждают всем существом только истину и смысл её.
И потому, несомненно, что в действительности, как бы оная не мерещилась сквозь смуту рассеянности и материю невежества, есть лишь безусловная истина и лишь безусловный смысл её саморазумения.
Всё преходящее есть лишь подобие того, что есть действительно. Уже и существующий мир в этом образе, как он предстоит человеку, не есть химера безобразия: исполненный субъективностью саморазумения, он сам внимает себе и сам взирает на себя бесчисленными миллионами своих образов бытия, своих особенных взглядов, и каждый из его существующих взглядов, а в том числе и взгляд человека, усматривают сущую истину мира, но только своим особым, ограниченным, а не ее собственным, безусловным образом; а потому, все они, вместо её действительного образа, усматривают и уразумевают лишь то, что каждый из них способен усмотреть, уразуметь и вместить в себе, – только особый образ своего усмотрения и разумения.
В её действительном образе безусловно-сущая истина усматривается и уразумевается только безусловным же образом ее бесконечно-великого внимания и саморазумения, – только Богом.
И притом, если уразумение каждого из существующих взглядов на мир, по степени его одушевляющего внимания, совершается лишь во времени, – медленнее или скорее, – то уразумение безусловного взгляда на мир, одушевленного силою бесконечно-великого внимания, совершается с бесконечно-великою скоростью, то есть уже не совершается, но вполне совершилось и уже было от вечности вне всякого времени.
Потому что совершаться с бесконечно-великою скоростью именно и значит быть безусловно-совершенным в вечности, вне определения времени и пространства, и тех значений, какие они имеют в вечном существовании.
Вечный объект, или безусловная истина всего мира, просвечивает сквозь беспредельную тьму мировой рассеянности лучом жизни каждому из существующих, конечных взглядов, как его собственная, особая истина, которую он в себе самом ведает, которою он утверждается, живет и дышит, но которую он обнять собою в её безусловности не может; так как она, по её необъятности, для всего конечного, объемлется только бесконечно-великим вниманием, только безусловным взглядом вечного субъекта, пред которым и время и пространство – уже не расторгающая стихия, какою они являются в конечном существовании, а только – тот вечный ритм и та вечная мера бытия, которая дышит, как жизненный пульс, в творениях поэтов и художников, не разрывая, но связывая их содержание к единству вечной жизни и гармонии.
Своим безусловным образом бытия бесконечный субъект и предвечный смысл истины, именуемый Богом, живет вне конечных условий времени и пространства. Он был безусловно прежде, чем что-либо сталось, и предупреждая собою весь мир, есть его безусловное прошедшее. Он будет безусловно и после всего, что еще не имеет быть и, заключая собою все предстоящее развитие и все наступающие процессы, или эволюцию мира, есть его безусловное будущее. Как вечное соотношение, как живая неделимость (индивидуальность) бесконечного смысла всего прошедшего с бесконечным бытием всего будущего, как живой ритм их самосознания друг в друге, он же есть и безусловное настоящее, и вечно-сущая истина всего разумения и всего существования.
Сомневаться в том, что есть Бог, возможно только через сомнение в истине самой истины; но сомневаться в том, что истина есть истина, и предполагать истину лжи или лживость истины, возможно только при бессмыслии, при котором вся действительность мира обращается в дикую химеру лжи и безобразия.
Но такой химеры нет и быть не может; она питается и живет только бессмыслием, отрицающим истину смысла; а истина в том и состоит, что есть Бог над землею и над небесами, который спасает мир от всякой лжи, от всяких химер предвечным смыслом своего безусловного саморазумения.
Примечания
Глава из книги «Основы веры и знания» – СПб., 1886 г., с. 114–127. В настоящей публикации орфография текста приведена в соответствие с нормами современного русского языка, но сохранены некоторые особенности авторской пунктуации и характерные для стиля П.А. Бакунина «архаизмы», подчёркивающие метафизическую значимость ряда тезисов.
1. Заметим, что и в русском языке слово «внимать» (как в немецком слово «vernehmen») означает, прежде всего, слушать («жадно поглощать слухом» – В. Даль), что прямо связывает внимание с разумением, то есть, в первую очередь, пониманием речи, слова, l o g o V ’ а. Тем самым П.А. Бакунин с самого начала расширяет концепцию внимания за пределы её чисто «визуальной» трактовки, к которой располагают преобладающие в дальнейшем термины «взгляд», «образ» и т.д. Образ мира у П.А. Бакунина – это не только зрительный образ, но продукт внимания как тотального акта, в котором участвует вся полнота познавательных сил и способностей субъекта.
2. Ср. «Монадология», положение 57 (Г.В. Лейбниц «Сочинения в четырех томах» – т.1, М., 1982 г., с. 422–423). В то же время необходимо подчеркнуть, что П.А. Бакунину совершенно чуждо убеждение Лейбница в том, что «монады вовсе не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти» (там же, с. 413–414). «Монада» у П.А. Бакунина (как у П.Е. Астафьева, Л.М. Лопатина и других классиков русской философии) существенно способна к взаимодействию с другими «монадами» (а точнее, существами, наделёнными самочувствием). Подробнее см. мою статью «Счастливая вина. Лейбниц и «аутсайдеры» русской философии» в сборнике «Философский век. Г.В. Лейбниц и Россия» – СПб., 1996 г., с. 124–144.
3. Перевод кантовского «an sich» представляет достаточно серьезную философско-терминологическую проблему. Предлагаемый П.А. Бакуниным вариант «про себя (сущее)», по крайней мере, более точен, чем привычное «в себе» (хотя наилучшим вариантом является, на наш взгляд, перевод «по себе (сущее)», «вещь (сама) по себе»; ср. З.Н. Зайцева «Немецко-русский и русско-немецкий философский словарь» – МГУ, 1998 г.).
4. «Бытие, неопределенное, непосредственное, есть на деле ничто и не более и не менее, как ничто» (Г.В.Ф. Гегель «Наука логики» – т.1, М., 1970г., с.140).
5. «Чувственный материализм» животных можно определить и как сенсуализм. Несколько неожиданно, на первый взгляд, то, что П.А. Бакунин определяет «мировоззрение», присущее растениям, как пантеизм. Но при ближайшем историко-религиозном рассмотрении «пантеизм» (конечно, как тип человеческого мировоззрения) теснейше связан с тем циклическим возрождением природы, которое выражается, прежде всего, в растительном царстве, в «пути зерна», в «таинстве возрождения хлеба» и вообще плодородия земли (ср., например, трактовку древнегреческой религии в многочисленных работах Ф.Ф. Зелинского).
6. Вскрыв выше основную ошибку И. Канта (фикцию «чистого объекта», или «вещи в себе»), которая играла на руку материализму, П.А. Бакунин в то же время видит бессмертную заслугу немецкого мыслителя в утверждении критической теории знания. Заметим в связи с этим, что Кант действительно важен не своим ложным утверждением о «непознаваемости вещей в себе» (или, по другой терминологии, «непознаваемости сущности вещей»), а именно своим критическим пафосом, согласно которому истинное знание существует не там, где есть какая-то информация о вещах, а только там, где есть критически осмысленная информация. В проекции на современность это значит, что вину за «дезинформацию» несут не только ее изготовители, но и её потребители, забывающие, что превращение любой информации в знание должны осуществлять они сами, применяя свойственную человеку разумному «критическую способность», о которой и напоминает П.А. Бакунин.