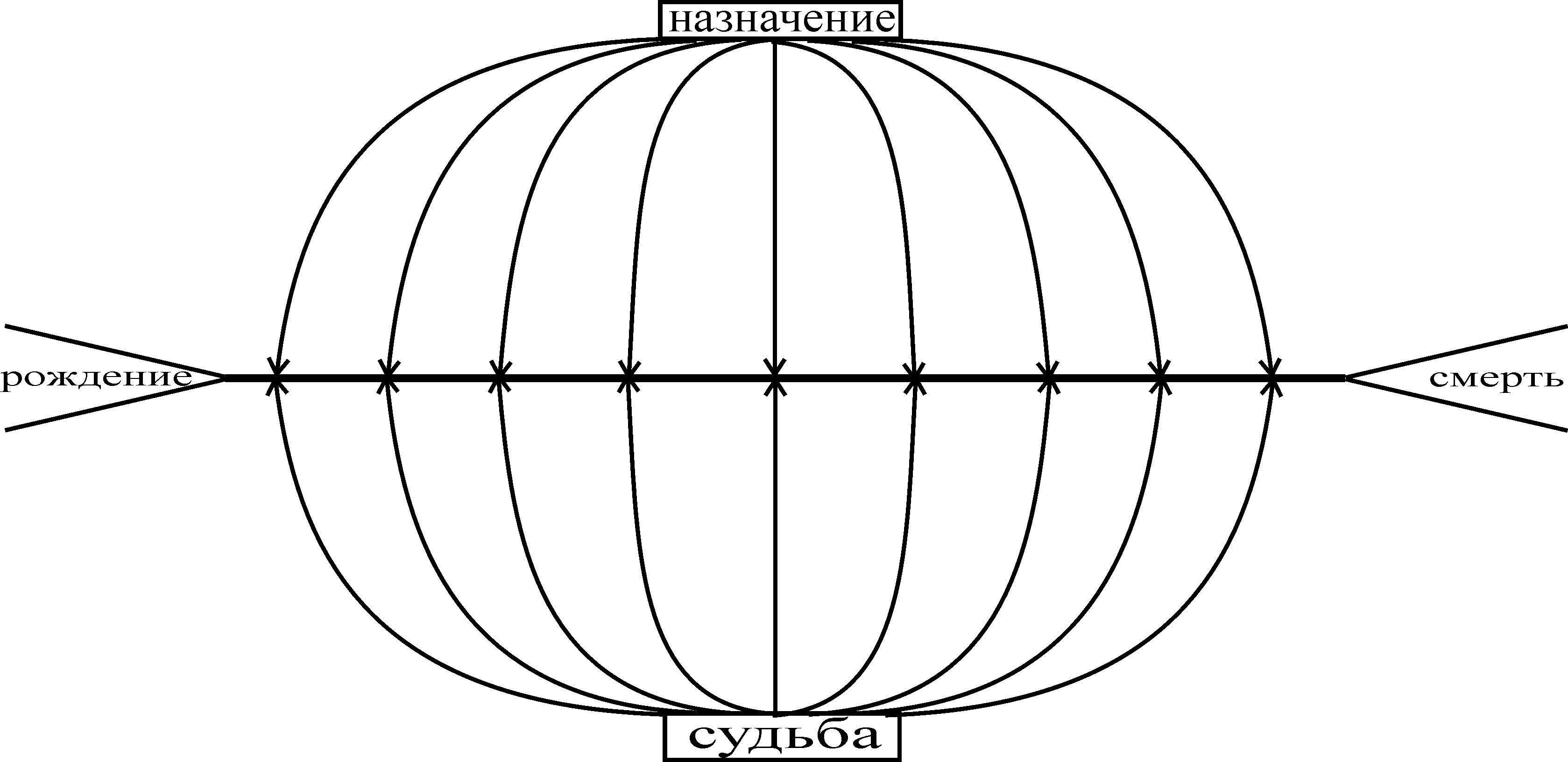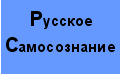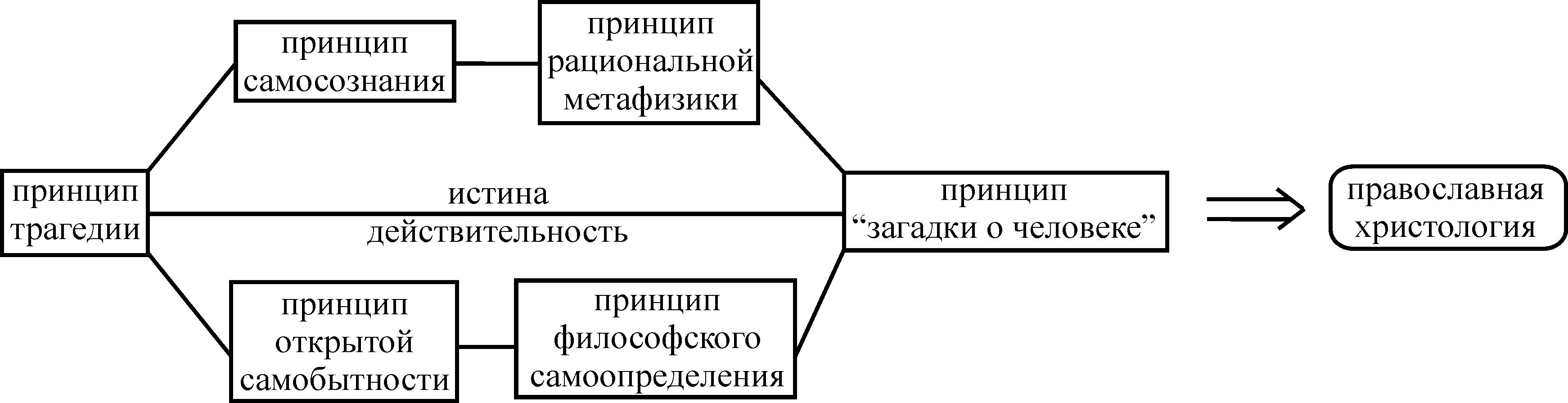Николай
Ильин
ТРАГЕДИЯ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
1
Глава первая. От личины к
лицу.
§ 6.
Истина и действительность русской философии.
Итоги главы.
"Не можно век носить личин, И истина
должна открыться". Эти державинские строки
вполне актуальны – и для русской жизни в целом, и
для русской философии. На протяжении почти всего
ХХ века лицо русской философии скрывали личины,
скроенные её «историками», как советскими, так и
эмигрантскими (см. § 1). В результате наше
национально-философское наследие сегодня, на
исходе века – это по сути terra incognita, это земля,
которую нам еще предстоит открывать, изучать, осваивать.
Вот почему данное исследование (которое
основано на первоисточниках, на подлинных
документах русской философии, а не на её
фальшивых «историях») началось с рекогносцировки,
с попытки обрисовать общий характер области, в
которую вступает читатель. При этом автор хотел
не просто «информировать» читателя, а подготовить
его к череде самых серьёзных усилий,
которые наверняка потребуются в дальнейшем.
Усилия эти предполагают, конечно, не только
эмоциональный и волевой, но в ещё большей степени
– определенный умственный настрой.
Необходимо сказать прямо: если современный
читатель возьмется за книги Петра Астафьева или
Николая Страхова, Павла Бакунина или Виктора
Несмелова с теми привычными мерками
«философского текста», которые он усвоил под
влиянием эрзацев философии (типа
«религиозной философии» Вл. Соловьёва и
эпигонов; см. § 4),
то он просто не сможет воспринимать эти книги адекватно,
станет почти машинально отыскивать в них нечто
похожее на искусственные мифологемы, вроде
«тварной и нетварной Софии», или
«антиномические» конструкции, типа
«просвещенного неведения» 2 ; а всё подлинно
философское, проникающее в суть человеческого
существования, останется для него втуне, как бы
просто и ясно об этом ни говорилось. Настроить
читателя на верное восприятие русской философии,
на ее настоящее понимание – вот в чем
заключалась важнейшая задача первой главы
данного исследования.
Попытаемся теперь подвести её итоги,
рассмотреть принципы понимания русской
философии в их конкретном единстве – чтобы далее
применять (а также, естественно, уточнять и
углублять) эти принципы вполне сознательно.
Одновременно такое подведение итогов даст нам
возможность яснее сформулировать метод
дальнейшего исследования, определить его
основные этапы и направления. Но прежде всего
отметим ту принципиальную двойственность
общей задачи, которая присуща любому
исследованию по истории философской мысли.
С одной стороны, мы должны увидеть историческую
действительность русской философии, то есть
представить философский процесс в России так,
как он действительно происходил. Но есть и другая
сторона той же задачи историко-философского
познания: одновременно мы должны понять логическую
истину русской философии, выявить в ее
содержании именно то, что имеет значение не
только действительного факта, но и несомненной
истины 3 . Теперь спросим себя: как же решать
эту двуединую задачу – не искажая
действительность во имя предвзятой «истины»
и не теряя истину в дебрях непросветленной «действительности»?
И здесь свой точный ответ дают классики русской
философии.
«Действительность утверждается или
доказывается только истиною; в свою очередь,
истина доказывается или утверждается только
действительностью. Их обоюдное самоутверждение
есть, разумеется, круг; но это живой, бесконечный
круг самосознания» [1].
Не устаешь удивляться тому,
насколько современно (хотя и отнюдь не
«модернистки») звучат суждения русских
мыслителей XIX века. Вот и в приведенных словах П.А.
Бакунина мы находим, без всякой натяжки,
проникновение в самое существо проблемы, которая
называется сегодня «кругом понимания » [2]. Но
о характере русской герменевтики (связанной,
конечно, с европейской философской традицией, но
радикально отличной от герменевтики модернизма
и «постмодернизма») мы будем говорить позже, в
следующей главе этой книги. Сейчас важнее
сделать другое. Применяя слова Павла Бакунина к
вопросу об изучении русской философии, скажем
так: истину русской философии можно открыть,
только внимательно всматриваясь в её
действительность; действительность русской
философии можно понять, только глубоко вдумываясь
в её истину. Таким и должен быть метод нашего
исследования; метод, который постигает действительную
истину русской философии и одновременно её истинную
действительность.
Сразу подчеркнем: истина и действительность –
категории существенно разные; их
безоговорочное отождествление является одной из
самых серьезных философских ошибок 4 .
Чтобы представить это различие более конкретно,
укажем (опять-таки следуя Павлу Бакунину) на
различие судьбы и назначения. Просто
отождествлять их нельзя; это каждый из нас
постигает на собственном жизненном опыте. Но
нельзя их и разделить; судьба без назначения –
это вовсе не судьба, а бесцельное прозябание; в
свою очередь, назначение, не связанное с судьбой
– это бесплодная «мечтательность», не требующая
усилия и жертвы. Не менее ясно мы видим такое же
двуединство в жизни народов, судьба, или историческая
действительность которых всегда сопряжена с
назначением, «национальной идеей», то есть истиной
национального существования. Отречение от этой
истины исключает народ из истории, превращает
его, по выражению Н.Я. Данилевского, в
«этнографический материал»; но не менее пагубно
измышлять «национальную идею», игнорируя опыт и
уроки исторической судьбы 5 .
Назначение и судьба – это, по сути дела,
«экзистенциальные эквиваленты» более общих
категорий истины и действительности. Но прежде
чем говорить о взаимосвязи назначения (истины) и
судьбы (действительности) русской философии,
поставим вопрос: как же квалифицировать метод,
постигающий истину и действительность в их живом
сопряжении?
Хотя такой метод заключает в себе элементы
диалектики, герменевтики, феноменологии и так
далее (конечно, в их подлинном, а не модернистском
смысле), его единственно точное название – умозрительный
метод. Ведь умозрение как раз и сочетает в
одном познавательном акте созерцание (воззрение,
видение) как способ познания действительности и мышление
(ум, разумение) как способ познания истины.
Необходимо ясно понять: истина как таковая
является предметом мышления, строгого
логического рассуждения («созерцание
истины» – иллюзия платонизма); напротив,
действительность как таковую нельзя
«мыслить» (как ошибочно полагал Гегель, а до него
Парменид), она требует внимательного и
всестороннего рассмотрения. И если в нашем
повседневном языке слова «рассуждение» и
«рассмотрение» зачастую используются как
синонимы, то за этой неточностью скрывается
безотчетная тяга к полноценному познавательному
акту, который реализуется именно в умозрении. К
акту, значение которого лаконично выразил Л.М.
Лопатин: «отрицание умозрения есть гибель
знания » [5].
Конечно, в дальнейшем нам
понадобится куда более тщательное исследование
умозрительного метода, одинаково далекого как от
чисто дискурсивной (когда мышление вытесняет
созерцание), так и от чисто интуитивной (когда
происходит обратное) трактовок, характерных,
вообще говоря, для западноевропейской философии 6 . Но сейчас нам важнее подчеркнуть
следующее: изучение русской философии не требует
метода, ей постороннего
(«феноменологического» у С. Хоружего,
«психоаналитического» – предел безвкусицы! – у
Е. Барабанова и сонма нынешних русскоязычных
фрейдистов). На вопрос: как же познавать русскую
национальную философию? – существует лишь один
адекватный ответ: точно так же, как познавала она
сама, с помощью её собственного метода –
умозрения. Тем самым мы утверждаем творческую
преемственность к русской философии, признаём её
на деле нашей философией; а русская философия
тем же самым утверждает себя в качестве живой
философии, которая продолжается в нашем
мышлении и созерцании. Это исключительно важный
момент: не успев создать свою историографию,
русская философия завещала, передала нам через
провал ХХ века метод философского познания
вообще и историко-философского познания в
частности.
Ещё раз сформулируем суть этого метода: назначение
(истину) русской философии можно открыть, только
вглядываясь в ее судьбу (действительность);
судьбу русской философии можно понять, только
вдумываясь в её назначение. И вот, первый
принцип понимания русской философии,
составивший отправную точку нашего исследования
– это принцип трагедии. Установив этот
принцип (см. Введение), мы, по сути дела, сразу
прикоснулись к истинной действительности
русской философии, стали, хотя бы в качестве
зрителей, соучастниками этой действительности;
нам приоткрылась её настоящая глубина.
Другими словами, трагедия русской философии –
это не то или иное внешнее событие негативного
характера, которое «случилось» с русской
философией: например, высылка из России ряда
философов в 1922 году, «изгнание философии из
русских университетов» в 1850 году [8] и другие
факты, о которых обычно говорят, как о «трагедии».
Конечно, совсем отделить подобные события от
трагедии русской философии нельзя – но суть дела
не в них. Она даже не в тех событиях и процессах,
которые имели преимущественно внутренний
характер, не «случались» с русской философией, а происходили
внутри неё. Ранее мы отмечали, в частности, тот
разрыв философской традиции, который произошел в
самом начале ХХ века – разрыв между наследием
классиков русской философии 7 и
замыслами «новых философов», захваченных духом
модернизма, отрицания всего национально-классического,
способного служить эталоном, критерием,
нормою философского творчества. Но даже этот
роковой разрыв (который мы проанализируем
впоследствии как можно тщательнее) нельзя
считать трагедией русской философии. И не только
потому, что трагедия охватывает всю историю
русской философии, состоит из целого ряда
переходящих друг в друга актов, образующих
настоящее духовно-художественное целое. Ещё
важнее понять, что трагедию нельзя видеть только
в негативном, в неудачах и бедствиях философии.
Напротив: вовсе не то, что «мешает» нам
философствовать, но то, что побуждает нас к
философии – порождает трагедию. Иначе говоря,
трагический характер русской философии не
является признаком её ущербности,
доказательством того, что она «не удалась». Не
удалась, изменила себе именно та философия,
которая благополучно избавилась от трагедии,
обрела позитивистское самодовольство 8 .
Конечно, понятие трагедии как «истинной
действительности» выглядит достаточно
абстрактным – пока мы не всмотрелись в эту
действительность, пока не вдумались в её истину.
Но стоит совершить здесь усилие ума (и души в
целом), о котором мы говорили выше, как станет
понятно нечто глубоко важное, как будет обретена
пусть не окончательная, но первичная, изначально
верная идея трагедии. Та идея, которую ясно
выразил П.А. Бакунин, отмечая: «Назначение и
судьба спорят между собою о существовании
всякого существа » [10]. Русская философия
трагична, потому что трагично существование
человека; существование, которое русские
мыслители стремились понять (то есть духовно
пережить) во всей его полноте и глубине.
«Силовое поле» трагедии лежит между полюсом
судьбы (действительности) и полюсом назначения
(истины) человека; но между этими полюсами
пролегает и его жизнь, от рождения до смерти;
жизнь, всецело пронизанная трагедией (и если
кому-то из читателей может помочь схема,
условно отражающая «пантрагизм» жизни, мы
приводим её на рис. 1).
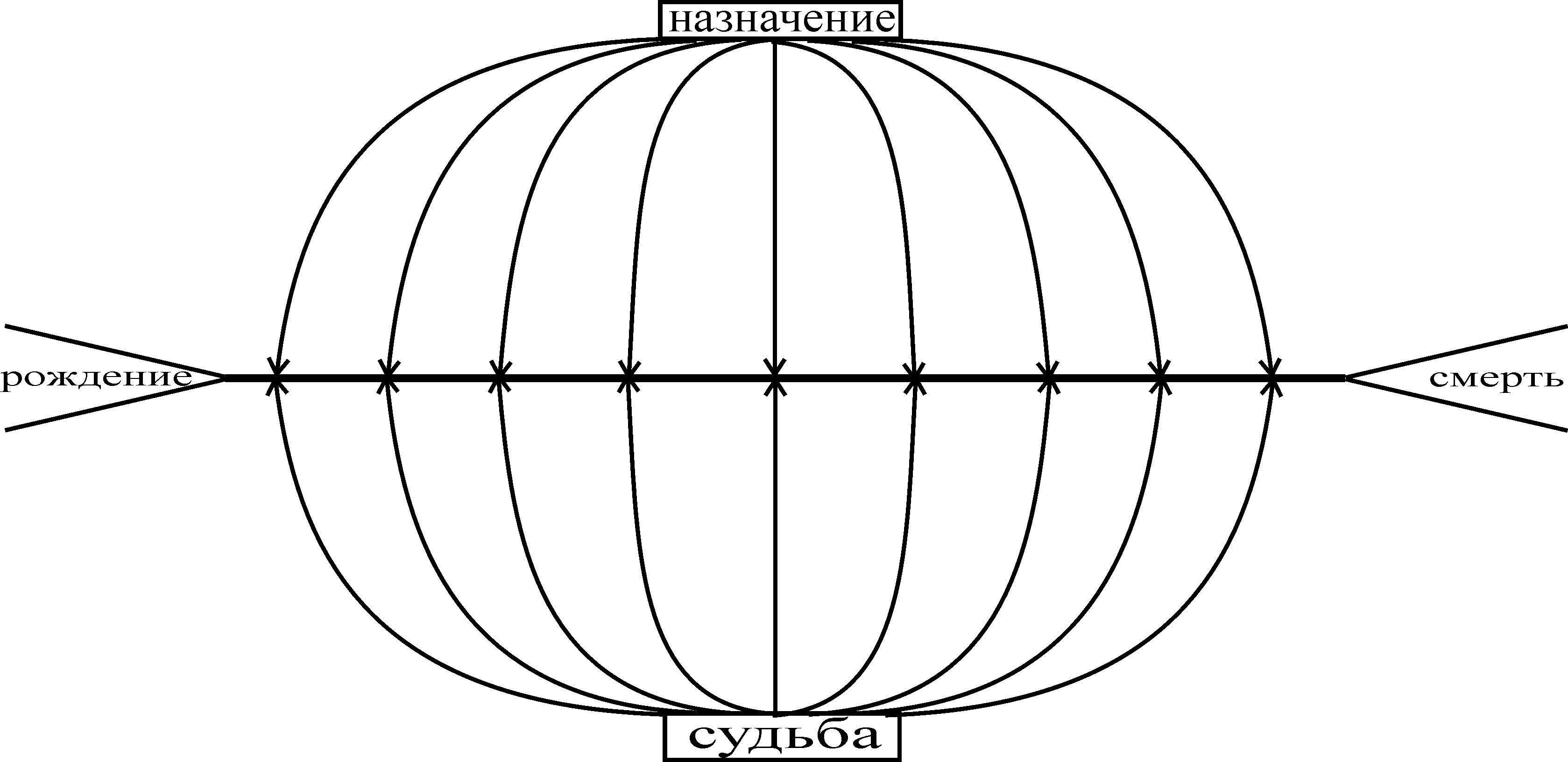
Рис. 1. Пантрагизм человеческого
существования.
А то, что верно для человека, по
существу верно и для народа; верно и для того
великого дела личности и народности,
которым является национальная философия –
трагичная, как трагично личное и национальное
существование. Заметим: как явствует из только
что приведенных слов Павла Бакунина, к трагедии
причастно всё живое, всё, что можно назвать существом
в отличие от мертвого вещества. Это
замечали и все великие художники; но уже они
замечали и другое. Мы часто отождествляем
трагедию и страдание; но русский поэт, столь
глубоко познавший страдание в собственной жизни,
столь чуткий к страданию в живой природе, тем не
менее восклицал:
Страдать! Страдают все, страдает темный зверь
Без упованья, без сознанья...
Страдание – ещё не трагедия, а только её
преддверие. Входит в трагедию один человек,
поскольку он обладает самосознанием. «Темный
зверь» тоже имеет судьбу и назначение – но они
для него вполне анонимны, он не ведает о них
именно в качестве своей судьбы и своего назначения,
а лишь испытывает их «на собственной шкуре». И
только для человека трагедия становится
существенно внутренней, ибо её полюса попадают
теперь в круг самосознания. Здесь уже самому
человеку принадлежит решающее слово в споре
судьбы и назначения, от него самого существенно
зависит весь ход трагедии и ее развязка. Короче,
человек трагичен не столько страдательно,
сколько деятельно. Вот почему переход от
принципа трагедии к принципу самосознания
составил следующий, внутренне необходимый шаг
нашего исследования.
Подчеркнем, что мы сделали этот шаг, не сходя с
пути умозрения, а строго по нему следуя. Мы
открыли принцип самосознания, внимательно
всматриваясь в действительность русской
философии, открыли его как доминанту этой
действительности на протяжении всего XIX века (§ 2), когда
русские мыслители искали в философии именно полного
самосознания, по прекрасному выражению
профессора Московской Духовной Академии Ф.А.
Голубинского
[11]. И пусть с риском
выглядеть педантом, я должен в очередной раз
повторить: тот читатель, который «скользнет» по
принципу самосознания, не поняв его
по-настоящему, приняв лишь как звонкое или
внушительное слово, ничего не поймет в
русской национальной философии. Причем
необходимо понять, прежде всего, именно строго
философское содержание этого принципа,
сконцентрированное, например, в словах В.И.
Несмелова: «В акте моего самосознания моё бытие и
моё сознание меня самого не просто лишь
совпадают, а суть одно и то же; я сознаю себя
именно потому, что я есмь, потому что если бы меня
не было, я бы и не мог сознавать себя; и я есмь
именно потому, что я сознаю себя, потому что если
бы я не сознавал себя, меня бы и не было – было бы
все, что угодно, но только не я» [12] 9 . Посоветую перечитать эти слова и
тем, кто смутно воспринимает их смысл, и тем, кому
они покажутся слишком ясными – ибо здесь
настоящий корень философии, корень, в отрыве
от которого древо философии неизбежно засыхает,
превращаясь в мертвую схоластику «всеединства»
или иного искусственного, «синтетического»
учения. Добавлю, что так называемая «советская
философия» с её «первичностью бытия» и
«вторичностью сознания» совершала по сути ту же
ошибку, что и «религиозная философия» с её
постоянными заявлениями о «первичности
онтологии» и «вторичности гносеологии». И та, и
другая были чудовищным шагом назад по
сравнению с творчеством классиков русской
философии, ясно понимавших, «что всякое
отношение сознания к бытию непременно требует
себе оправдания, и одно только бытие как
сознание не требует для себя ровно никакого
оправдания, и наоборот, само служит безусловным
основанием всякого разумного оправдания» [13].
Итак, второй принцип
понимания русской философии – это принцип
самосознания; он заключает в себе
действительную истину русской философии подобно
тому, как принцип трагедии выражает её истинную
действительность. Этот второй принцип, конечно,
прямо связан с назначением русской философии
– быть органом самосознания в духовном
организме нации, открывать перед русским
человеком ясный и верный путь к самому себе.
Отрицание этого принципа (характерное в XIX веке
для П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьёва) неизбежно
сочеталось с отрицанием как личной, так и
национальной самобытности; отрицанием тем
более нелепым, что русская философия (как и
русская культура в целом) именно в XIX веке
доказала великую силу своей самобытности.
Доказала не через изоляцию от культурных влияний
Запада, но идя им навстречу, принимая их вызов и
черпая в них стимул для творческого самоутверждения.
Наш переход от темы самосознания к теме
самобытности не случаен; ведь определив (пусть в
первом приближении) назначение русской
философии, мы и должны были лучше понять её
судьбу. Судьбу, в которой всегда занимал (и
продолжает занимать) ключевое место «самый
существенный из наших вопросов, вопрос о нашей
духовной самобытности » [14], то есть
вопрос о нашей способности к самостоятельной
творческой деятельности во взаимодействии с
европейской культурой. В первой главе нашего
исследования мы касались этого вопроса по
крайней мере дважды: говоря о преодолении
масонской и вольтерьянской псевдофилософии, но
также и о более важном, конструктивном моменте
– о творческой преемственности русской
философии к философии европейской
(§ 3). Русские мыслители
безошибочно воспринимали всё ценное в
метафизической традиции христианского Запада,
проявив при этом то качество, которое можно
назвать, вслед за Гёте, избирательным сродством
– усвоением того, что созвучно и родственно
русскому духу, и отторжением всего инородного,
чуждого нашим духовным инстинктам и интуициям.
Это качество имело для русской национальной
философии, для её успешного становления и для её
расцвета – самое принципиальное значение,
поскольку избавляло русских мыслителей от
неблагодарной роли «изобретателей велосипеда»,
от удела «провинциальных философов», гордых
открытиями, которые совершились, пусть под
несколько иными названиями, задолго до них 10 .
Вот почему необходимо назвать в качестве третьего
принципа понимания русской философии – принцип
открытой самобытности (открытой и для
творческого усвоения родственных, и для
активного отторжения чуждых идей западной
философии). Значение этого принципа нам ещё
предстоит глубже оценить в дальнейшем, когда
станет ясна его связь с основным характером
человеческого бытия; характером, который Н.Н.
Страхов выразил в словах о специфической
«открытости» человека: «всё имеет на него
влияние, следовательно, никакое влияние не
поглощает его вполне » [15]. Но сейчас, следуя
логике умозрения, мы должны снова перейти от
действительности русской философии к её истине,
а именно, точнее определить ту форму, которую
классики русской философии считали наиболее
адекватной для выражения истины. Здесь они менее
всего стремились быть оригинальными (новации в
области формы вообще не характерны для русской
духовности) и неизменно предпочитали форму рациональной
метафизики, то есть такое развитие своей мысли,
при котором она совершает логически
обоснованный переход от данного в опыте к сверхопытному
(трансцендентному) 11 . Собственно
говоря, форма рациональной метафизики и является
наиболее естественной для философского умозрения
(как особенно тщательно показал Л.М. Лопатин в
первой части «Положительных задач философии»),
то есть является философской формой par excellence.
Способность узнавать эту форму позволяет,
кстати, отличать «жанр философии» от иных
литературных жанров, где элементы философского
содержания порою присутствуют, но без
соответствующей этому содержанию формы, по сути гетероморфно.
Такова, например, художественная проза (да и
публицистика) Ф.М. Достоевского, где, конечно,
есть определенное философское содержание; но в
отсутствии своей собственной формы это
содержание допускает самые различные
манипуляции, выдаваемые, как уже отмечалось (§ 5), за «интерпретации философии
Достоевского». Однако настоящая философия,
философия в своей собственной форме не
допускает «интерпретаций», «толкований» и
прочего – она требует только верного и по сути однозначного
понимания 12
. Добавим, что на
периферии русской философии мы находим
своеобразные эксперименты в жанре
«гетероморфной» и даже «аморфной философии»,
по-своему интересные у К.Н. Леонтьева и В.В.
Розанова 13 . Но эти эксперименты только
подтвердили право и долг философа: отстаивать
для философии её особую форму языка и мышления, а
по сути – форму истины.
В силу сказанного принцип рациональной
метафизики является четвертым принципом
понимания русской философии (и, в частности,
её узнавания среди массы «философических»,
публицистических и каких-либо других текстов).
Причём, мы в очередной раз убеждаемся, что
рассуждение об истине русской философии (в
данном случае – со стороны ее формы) приводит нас
к рассмотрению действительности русской
философии. И понятие метафизики получает при
этом уже не только формальный характер – если
помнить, что речь идет о конкретной метафизике
человека, каковою и является философия в
собственном смысле слова. В действительности
русской философии мы открыли (см. §
4) борьбу между метафизикой человека и двумя
формами позитивизма – «религиозной
философией» и «научной философией». Хотя тень
позитивизма (и «религиозного», и «научного»)
легла на русскую философию с Запада, эта борьба
очень быстро стала сугубо внутренним делом
русской культуры, борьбой за право философии
занимать здесь своё особое место, обладать
самостоятельным значением по отношению к
богословию и науке. В этой борьбе позитивизм имел
определенное тактическое преимущество (которое
вытекало фактически из его коренного порока) –
он не затруднял себя задачей подлинного философского
самоопределения, ссылаясь на «религиозность»
и (или) «научность» как на свои не требующие
дальнейшего разъяснения опоры. Так он привлекал
(и продолжает привлекать) неглубокие,
несамостоятельные умы; привлекал людей, в
которых преобладал позыв – убежать от самих
себя, от философского самопознания; позыв потерять
себя в бессознательной стихии мира или
«сверхсознательной» плероме божества.
Всё это нельзя просто выбросить из судьбы
русской философии. Напротив, ясное различение
философии в собственном смысле слова (философии,
способной к самоопределению именно в качестве
философии) и двух форм позитивизма
(«религиозного» и «научного») составляет пятый
принцип понимания русской философии –
назовём его для краткости принципом
самоопределения. Значение этого принципа
глубоко актуально, и не только потому, что
«религиозный», да и «научный» позитивизм
(например, под вывеской «русского космизма»)
продолжает заслонять русскую философию в
собственном смысле слова.
Речь снова идет не только о судьбе, но и о
назначении русской философии. Не обладая
способностью верно понять это назначение,
«религиозная философия» выдвинула задачу
создания искусственной «надконфессиональной
религии» с соответствующим «синтетическим
богословием», которое скрывается за разными
именами: теософия, софиология, «панэнтеизм» (у
Л.П. Карсавина) и т.д. и т.п. 14 . А тем
самым была в корне искажена настоящая православно-богословская
перспектива, которую открыли классики русской
философии. Выше (§ 5) мы
убедились в том, что они не только боролись за
самостоятельность философского знания, но и
установили его настоящую связь с православным
богословием, поставив перед русской мыслью
великую задачу создания христианской
философии; задачу, для решения которой они
заложили прочный фундамент, открыв принцип
«загадки о человеке» – шестой принцип понимания
русской философии. Эту загадку способна
сформулировать только философия, которая
проникла в самую глубину человеческого
существования, в глубину личности и народности
(как более верно называть то, что обычно
именуется «природой» человека). И решение этой
загадки даёт не «религия вообще», не
«синтетическая религия», а только религия
Богочеловека, то есть христианство 15 ; даёт в тех христологических
догматах, которые установила Православная
Церковь. А в единстве загадки и ее решения
(вопроса и ответа
16 ) стал обретать ясные
контуры русский тип христианской философии.
Стоит ли удивляться тому, что были применены все
средства, чтобы стереть эти контуры из нашей
памяти, чтобы не допустить исполнения русской
философией своего высшего назначения? Нет,
удивление здесь неуместно – уместно только
продолжение духовной борьбы, стремление к полному
пониманию истины и действительности русской
философии, и на этой основе – к исполнению ещё не
исполненного.
Сейчас мы находимся практически у самой
начальной точки этого стремления; установленные
выше принципы понимания (сведенные в схему на
рис. 2) ещё требуют своего конкретного наполнения.
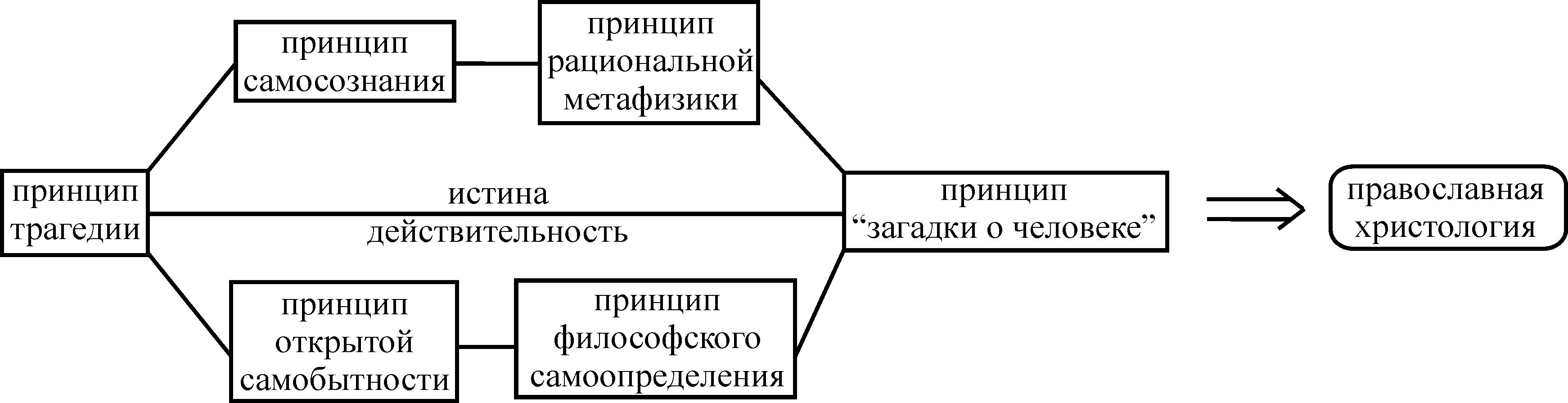
Рис. 2. Принципы понимания русской
философии в православно-богословской
перспективе.
Такое наполнение может дать только тщательное
изучение русской национальной философии, прежде
всего – изучение творчества её классиков.
Заметим, что в этой книге принято достаточно
традиционное определение классического как
«наиболее зрелого, наиболее совершенного
оформления человеческого как такового» [19].
Из всего сказанного ранее ясно, что подобное
определение вполне соответствует основному
характеру русской философии XIX века, творчеству
тех, кто понимал философию именно как учение о
человеке. Конечно, необходимая зрелость
наступила не сразу, и наивысшие творческие
взлёты философской мысли в России мы находим,
главным образом, в 70-90-ые годы XIX века. Мы выделили
здесь семь классиков, семь мыслителей, в трудах
которых метафизика человека обрела и близкую к
совершенству форму, и самое глубокое содержание.
Их имена уже неоднократно встречались на
страницах этой книги, но, тем не менее, назовем их
еще раз, в том порядке, в котором мы обратимся к их
творчеству в следующей главе: Н.Н. Страхов –
П.Е. Астафьев – Л.М. Лопатин – П.А. Бакунин – Н.Г.
Дебольский – В.А. Снегирёв – В.И. Несмелов.
Это не значит, конечно, что мы оставим без
внимания других мыслителей, которые внесли свою положительную
лепту в русскую национальную философию. Если
для них не будет отдельного параграфа, то они
будут присутствовать на самых различных
страницах следующей главы, да и книги в целом. Это
относится, прежде всего, к И.В. Киреевскому,
чьи идеи стали теми семенами, которые проросли в
творчестве практически всех мыслителей,
выделенных нами в число классиков. Мы обратимся,
конечно, и к А.С. Хомякову (и не только в
связи с идеей соборности), и к глубоко
трагической фигуре П.Д. Юркевича
(фактически показавшего, что христианская
философия требует выхода за пределы платонизма;
урок, так и не понятый апологетами
«христианского эллинизма», типа Г.В.
Флоровского), и к А.А. Козлову (который
одним из первых ясно сформулировал примат конкретного
самобытия над абстрактным бытием, то есть
фактически примат персонологии над «чистой»
(«фундаментальной» и так далее) онтологией), и к
ряду других мыслителей, с творчеством которых
связано созидание русской философии.
Само собою разумеется, что мы затронем
и творчество великого русского мыслителя Н.Я.
Данилевского (в связи с антропологией Н.Н.
Страхова и концепцией народности у Н.Г.
Дебольского). На вопрос же, почему его нет в нашем
«списке» классиков русской философии, отвечаю:
это связано исключительно с тем, что наше
исследование сосредоточено на метафизике
человека, которую автор считает теоретическим
ядром философии. В этом смысле учение
Николая Данилевского о «культурно-исторических
типах» относится к «прикладной» философии, и
даже к целому ряду её разделов (философия
истории, философия культуры, философия политики).
Дело Данилевского в этой области настолько
грандиозно, что его не решаются игнорировать
даже явные враги русского самосознания. Но зато
они очень охотно изолируют Н.Я.
Данилевского от русской национальной философии
в целом. И задача сегодня не столько в том, чтобы
сказать ещё раз о величии этого мыслителя, а в
том, чтобы сделать подобную изоляцию
невозможной; показать, что идеи Данилевского
тесно связаны с тем подходом к проблеме человека,
который развивали другие классики русской
философии .
Читатель, вероятно, уже заметил,
что имена классиков русской философии
расположены в порядке, который не является
строго хронологическим (хотя и не отклоняется от
последнего радикально). Более важным
представляется здесь порядок логический,
связанный с истиной русской философии – истиной
о человеке. Дело в том, что каждый из названных
выше мыслителей разработал особенно глубоко
свой особый раздел учения о человеке: Н. Н.
Страхов – рациональную антропологию, учение
о месте человека в природе 17 ; П.Е.
Астафьев и Л.М. Лопатин – психологию и пневматологию,
учение о духовно-душевной субстанции
«внутреннего человека»; П.А. Бакунин – общую субъектологию
(и одновременно герменевтику) человека,
учение о природе сознания как «самоотношения» и
«отношения к другому»; Н.Г. Дебольский –
исключительно важное учение о народности,
нациологию как принципиально новый раздел
метафизики человека 18 ; наконец, В.А.
Снегирев и В.И. Несмелов ясно выдвинули на первый
план персонологию, учение о личности
человека, поставив это учение уже в самую
непосредственную связь с православной христологией.
Необходимо заметить, что творчество каждого из
классиков русской философии, конечно, не
укладывается «без остатка» в один из названных
выше разделов; так, Николай Страхов сказал свое
слово практически по всем основным проблемам
человеческого существования; Пётр Астафьев
глубоко продумал идею личности, особенно в связи
с категорией свободы; Вениамин Снегирёв дал
развернутую и яркую картину душевной жизни в ее
целом, и так далее. Тем не менее, каждый из них сосредоточил
свои основные усилия именно на одной из
проблем, связанных с «полнотою самосознания». А
как же синтез, объединение? – спросит читатель.
Вопрос этот по-своему неизбежен, но верный ответ
на него – вовсе не тот, который подразумевается в
формулировке вопроса. Никакого синтеза не
нужно – ибо конкретное единство всех
основных разделов учения о человеке и составляет
действительность русской философии; «особое
дело» каждого из русских мыслителей органически
входит в эту действительность, и нет никакого
смысла вторично её «синтезировать» – её надо
просто увидеть и понять как живое целое 19 . И сегодня наша задача – продолжать
творческий и конкретный труд русских
мыслителей; только в таком труде будет возрастать
истина и действительность русской философии,
обретать актуальность то, что заключено
здесь in potentia. Возможно, что при этом нам
откроются и новые разделы учения о человеке, хотя
ясно, что и старые – ещё отнюдь не исчерпаны
(особенно это относится к нациологии человека,
понятой именно как фундаментальный раздел
его метафизики).
Но мы невольно перешли к разговору о будущем
русской философии. Это – естественно; к такому
разговору более всего побуждает творческая,
созидательная деятельность её классиков, да и
всех, больших и малых, но истинно русских мыслителей.
Сначала нам необходимо, однако, как можно яснее
расслышать их собственные голоса. Особенно
голоса тех, кого «историография» русской
философии так старательно пыталась обречь на
гробовое молчание. Бесплодная затея! Для
русского человека наступило время
самосознания, наступил час истины и
действительности его национальной философии.
Нам хотели представить русскую философию
кладбищем химер и утопий – но ошиблись в своих
расчетах. Уже происходит, свершается то, о чем с
такой потрясающей силой сказал поэт:
Вдруг из таинственно открывшихся
могил
Сквозь песню высится: знакомое, живое.
Литература
1. Бакунин П.А. Запоздалый голос сороковых
годов – СПб., 1881 г., с.8.
2. Гадамер Г.-Г. Актуальность
прекрасного – М., 1991 г., с. 72 и далее.
3. Соловьёв В.С. Собрание сочинений – т.
II, СПб., б.г., с. 184.
4. Дебольский Н.Г. О высшем благе – СПб.,
1886 г., с. 58-59.
5. Лопатин Л.М. Положительные задачи
философии – ч. I, второе изд., М., 1911 г., с. XXII.
6. Каринский Вл. Умозрительное знание в
философской системе Лейбница – СПб., 1912 г.
7. Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkt – Bd. I-II,
herausgeb. von O. Kraus, Leipzig, 1924.
8. Введенский А.И. Философские очерки –
вып. I, СПб., 1901 г., с. 31.
9. Уайтхед А.Н. Избранные работы по
философии – М., 1990 г., с.690.
10. Бакунин П.А. цит. соч., с. 170.
11. Голубинский Ф.А. Умозрительная
психология – М., 1871 г., с. 16.
12. Несмелов В.И. Наука о человеке – т. 1,
третье изд., Казань, 1905г., с. 122–123.
13. там же, с. 122.
14. Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей
литературе – кн. первая, СПб., 1887 г., с. I.
15. Страхов Н.Н. Мир как целое – второе
изд., СПб., 1892 г., с. 176.
16. Дебольский Н.Г. Философия
феноменального формализма – вып. 1, СПб., 1892 г., с. 3.
17. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство
– в книге: Россия глазами русского, СПб., 1991 г., с.
243.
18. цит. по книге: Бондаренко Н.И.
Методология системного подхода к решению
проблем – СПб., 1997 г., с. 75.
19. Гадамер Г.-Г. Истина и метод – М., 1988 г.,
с. 339.
20. Астафьев П.Е. К спору с г. Вл.
Соловьёвым – Русский Вестник, октябрь 1890 г., с. 239.
(продолжение следует)
Примечания .
1 Продолжение;
начало в «Русском Самосознании», №№ 4-6.
2 Строго говоря, это название для
«высшей ступени знания», которое С.Л. Франк
заимствовал у кардинала Римской церкви Николая
Кузанского, следовало бы перевести как ученое
невежество (docta ignorantia), что вполне подходит
для характеристики «религиозной философии» в
целом.
3 Не могу не заметить: среди нынешних
«специалистов» по русской философии (да и по
философии вообще) разговор об истине тех
или иных философских концепций считается (пусть
и негласно) «дурным тоном»; здесь царит
равнодушная к истине «компаративистика»,
выявление «культурного контекста философии» и
прочая околофилософская суета. Суета, на
дне которой лежит отчаяние, особенно
сильное в тех, кто привык десятки лет выдавать за
«истину» то, что несло на себе изначальную печать
лжи.
4 Примером может служить «определение
истины» у В.С. Соловьёва: «мы разумеем под истиною
вообще то, что есть... Это определение настолько
обще и широко, что против него никто не станет
спорить» [3]. Характерно то, с каким апломбом
предлагает Вл. Соловьёв, в качестве исходного
пункта, заведомо ложный тезис. Несостоятельность
этого якобы «бесспорного» определения истины
отмечал, в частности, Н.Г. Дебольский,
подчеркивая, «что для истины, кроме сущего,
должно быть мышление об этом сущем»; а
если сущее («то, что есть») «никем не мыслится, о
нём нет и истины»
[4].
5 Нынешние «демократы», отвергающие
назначение, национальное призвание русского
народа, и нынешние «патриоты», которые держатся
за самые утопические (то есть именно
оторванные от судьбы и даже прямо опровергнутые
ею) версии «русской идеи» - как раз и служат
доказательством того, что ложная политика уходит
корнями в ложную философию (см. мою статью «Политика и философия» в № 5 «РС»).
Примером верного подхода к данной проблеме может
служить, на мой взгляд, статья Бориса Адрианова
«Русская идея в прошлом и настоящем» (№ 6 «РС»), хотя я не могу согласиться с
налётом «исторического детерминизма» на той
трактовке, которую получает у автора процесс
становления народного духа, где отходит
на задний план неразрывно связанный с духом
принцип свободы.
6 Из гениев европейской философии
ближе всего подошел к существу умозрительного
метода, несомненно, Лейбниц [6], и в этом
отношении он был глубоко созвучен классикам
русской философии (которые, однако, усвоили и
важные уроки «фихте-гегелевского идеализма», по
характерному выражению Н.Н. Страхова). Добавим,
что к выводам, очень близким к трактовке метода
философии у русских мыслителей XIX века, пришел в
последние годы своей жизни выдающийся
австрийский философ Франц Брентано (1838 - 1917); см., в
частности, предисловие его ученика Оскара Крауса
к переизданию «Психологии с эмпирической точки
зрения» [7]. Наследие Ф. Брентано ожидала,
впрочем, участь даже худшая, чем наследие русских мыслителей - его не
замалчивали, но последовательно извращали,
подгоняя под «феноменологический» позитивизм
Гуссерля.
7 Многие из которых ушли из жизни
накануне разрыва: в 1893 г. П.Е. Астафьев, в 1896 г. Н.Н.
Страхов, в 1900 г. П.А. Бакунин, в 1901 г. А.А. Козлов...
8 Характерное, например, для
современной англосаксонской (особенно
британской) философии. Чтобы почувствовать это
самодовольство, достаточно прочесть
десяток-другой страниц, скажем, из Б. Рассела или
А. Уайтхеда; последний прославляет
«умиротворенность» как идеал философии, ибо
«умиротворение несет с собою преодоление
личного» [9]. Вспомним, что о том же «преодолении»
твердил ещё в XIX веке и религиозный позитивизм
на русской почве, в лице П.Я. Чаадаева и В.С.
Соловьева («Назначение человека - уничтожение
личного бытия» и так далее).
9 Таким образом, истина и
действительность совпадают исключительно
в сфере самосознания; другое дело, что эта сфера
не имеет неподвижных границ. Начинаясь с одной
светлой точки во мраке незнания («я есмь»), она
постепенно растет, соотнося все новые и
новые факты со свои центром, и тем самым сообщая
этим фактам настоящую логическую очевидность.
Роковая ошибка Вл. Соловьёва (см. выше, сноска
4) заключалась именно в том, что он отрицал «живой,
бесконечный круг самосознания»,
и даже конкретно: его самоочевидный центр
(очевидное и даже
самоочевидное можно отрицать - или в силу
врожденной слепоты, или сознательно себя ослепив).
10 Добавлю, что то же качество «открытой
самобытности» должно сыграть самую важную роль и
сегодня, в деле возрождения русской
национальной философии. Мы снова должны
отвергнуть все инородное в западной философии
(прежде всего, фрейдизм и гуссерлианство), но зато
усвоить то, что нам родственно по духу (в том
числе и по нашей духовной породе, или расе);
усвоить, в ряде случаев разрушая тот «заговор
молчания», которым на современном Западе
окружены имена и идеи ряда выдающихся
европейских мыслителей ХХ века, связанных,
прежде всего, с немецкой и итальянской
философией (частично эта тема была затронута в
статье «Каждому - свое» в № 3
«РС» и в других публикациях раздела «К западу
от России»).
11 «Термин «метафизика» в широком
значении его означает вообще учение о
сверхопытном»
[16] - отмечал Н.Г. Дебольский.
Добавим, что «сверхопытное» не есть непременно
«сверхъестественное»; например, причина явления
всегда имеет сверхопытный характер, даже если
она приводит к опытно данной повторяемости
явлений. Следует, далее, иметь в виду, что речь
идет о формальном определении
метафизики; проблему связи между формой и
содержанием метафизики мы обсудим, в частности, в
связи с творчеством русского мыслителя, слова
которого мы сейчас привели.
12 Это отнюдь не исключает того, что
наше понимание идей того или иного мыслителя
может (и даже должно !) оказаться более глубоким,
чем понимание, явно выраженное в его
текстах.
13 В случае Василия Розанова такие
эксперименты вполне соответствовали личности
экспериментатора; но что касается Константина
Леонтьева, то здесь он самым драматическим
образом изменял собственной установке на
культ строгой формы, которая не дает «материи
разбегаться»
[17]; изменял, на наш взгляд,
потому, что подменял адекватность формы
ее «деспотизмом».
14 Сегодня «религиозный» и «научный»
позитивизм идут рука об руку, поучая нас,
например, тому, что «Всеобщий Вселенский Бог... –
это информационно-распорядительная система
Вселенной, оснащенная механизмами и
инструментариями в виде вездесущего
динамического энергополевого
Интерференционного и Информационного
Вселенского Кода» [18]. И ситуация не
становится проще от того, что воспринимать
подобную галиматью всерьез могут лишь
люди без элементарной философской культуры, да и
без элементарного религиозного просвещения –
ведь таких людей сегодня великое множество, в том
числе и среди «дипломированных философов».
15 Естественно, что и полное понимание
трагедии человека невозможно без постижения (в
доступной человеку мере и степени) трагедии
Богочеловека Иисуса Христа.
16 Ещё раз повторим: ответ не существует
сам по себе, без вопроса; верный ответ - без
верного вопроса. И если вопрос принадлежит
светской культуре, а ответ - хранится
в учении Церкви, то тем самым снимается
проблема «секуляризма», но не за счет
монофизитского поглощения светского
церковным или наоборот, а путем их подлинного двуединства.
17 Конечно, термин «антропология» можно
трактовать (что обычно и делается сегодня) как
«учение о человеке» в целом. Но каждый
термин имеет свою историю, которую нельзя
игнорировать. Исторически антропология была
наукой о человеке как биологическом виде.
И так называемая «философская антропология» на
Западе освобождается от этой натуралистической
установки с большим трудом, причем чаще
всего - с помощью крайнего антинатурализма,
который разрывает связь человека не только с
природой («биосом»), но и с жизнью как
таковой («человек - аскет жизни», по М. Шелеру),
тогда как для русской философии «жизни столько
же, сколько субъективности, ведомости себе» (П.Е.
Астафьев), то есть категория жизни сохраняет свое
значение и за пределами «натурализма». Что
касается философской антропологии в собственном
смысле (то есть учения о месте человека в
природе), то она явилась для русской мысли – естественной
отправной точкой при движении к метафизике
человека.
18 Термин «нациология» введен мною в
целях терминологический определенности;
возможно, что дальнейшее развитие этого раздела
позволит найти для него другую, более адекватную
номинацию.
19 Неслучайно Пётр Астафьев призывал
Владимира Соловьёва «делать своё дело» [20], а не заниматься «синтезом» дел, уже
сделанных другими; но последний был глух к такому
призыву - ибо был не способен внести
что-то своё, живое, подлинно оригинальное
в русскую философию. |